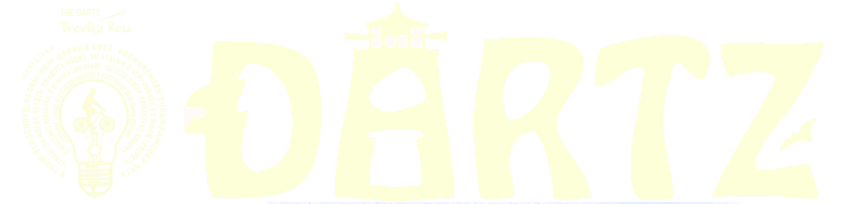Записки грушинских оборванцев
 Уважаемый
читатель! Твоему вниманию предлагаются путевые заметки, написанные участниками
питерской группы «The Dartz» по горячим следам поездки на XXXI-й ежегодный
фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Место действия — где-то под
Самарой. Время действия — 1-5 июля 2004 года. Рассказывают непосредственные
участники события — Dee (Д), Антон Гореликов (Г), и Моргул (М),
боевая подруга пана Игоря. Все фотографии тоже её авторства (кроме фотографии
Вани Жука, взятой с grushin.samara.ru). Таинственными литерами СЛ помечены
комментарии Слона, который изначально ничего не хотел писать, но вот же, всё-таки
написал. Некоторые события слегка доведены до абсурда с тем, чтобы позабавить
тебя, уважаемый читатель! Но все имена, фамилии и чувства в нижепреведённом
рассказе — настоящие.
Уважаемый
читатель! Твоему вниманию предлагаются путевые заметки, написанные участниками
питерской группы «The Dartz» по горячим следам поездки на XXXI-й ежегодный
фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Место действия — где-то под
Самарой. Время действия — 1-5 июля 2004 года. Рассказывают непосредственные
участники события — Dee (Д), Антон Гореликов (Г), и Моргул (М),
боевая подруга пана Игоря. Все фотографии тоже её авторства (кроме фотографии
Вани Жука, взятой с grushin.samara.ru). Таинственными литерами СЛ помечены
комментарии Слона, который изначально ничего не хотел писать, но вот же, всё-таки
написал. Некоторые события слегка доведены до абсурда с тем, чтобы позабавить
тебя, уважаемый читатель! Но все имена, фамилии и чувства в нижепреведённом
рассказе — настоящие.
Д: Утром 5 июля, где-то между Самарой и Тольятти,
наша «газель» поднималась в гору над Грушинской Поляной. Дождевая вода заливала
окна, и открывающиеся внизу склоны были почти неразличимы. Внутри газели было
темновато. Вопрос дорожной скуки решила Анфиса: она достала чаранго и принялась
наигрывать песенку. Чаранго — такой перуанский инструмент, маленькая десятиструнная
гитара с корпусом, сделанным из панциря броненосца. Едущие в машине узнали
мелодию и принялись тихонько напевать «Солнце висит над дорогой, он отправляется
в путь». Над дорогой, однако, в это утро висело не солнце. С утра по всей
Груше шёл дождь, и дороги уже порядком развезло. Иногда машина принималась
буксовать, но всякий раз выбиралась самостоятельно. Несколько раз за окном
сгущался очередной кордон, и водитель сбавлял ход: гаишники готовились к долгой
зиме, останавливая всех, кто ехал на Поляну или с Поляны. Странно, но нас
они так ни разу и не остановили. Видно, у водителя были Специальные Документы.
У заборов деревни мокли под дождём заросли конопли. Но даже к конопле мы не
вылезли. Придавленные тяжелыми кейсами, спали Деоданы; спал пан Игорь, время
от времени стукаясь лбом. И спустя четыре часа, в поезде Самара-Москва, я
засыпал на плацкартной полке, мыслями всё ещё бродя вокруг Поляны. За окном
отъежал самарский вокзал, похожий на минарет. Проходящая проводница поинтересовалась,
нужно ли нам бельё. Узнав, что да, и поскорее, она очень удивилась. «Как же
так? У меня обычно с Груши едут одни туристы, и они никогда не берут бельё».
«Мы очень, очень хотим спать»,— отвечали мы... С одной стороны — заляпанные
кейсы, грушинская грязь и щетина, больное горло и кашель, обгрызенные ногти
с каёмкой недвусмысленно намекали на то, что где-то мы всё-таки провели эти
четыре дня. Хотя, с другой стороны — кто может поручиться, что это нам не
примерещилось? Когда я потом рассказывал людям, что видел три луны в ночном
небе, у меня спрашивали, сколько же это надо было выпить. Не бывшим там очень
трудно объяснить, чем же хороша Груша. Но мы попробуем...
Г: А я люблю поездки. Поезд, полки, и так далее.
В этот раз за ради экономической эффективности решили состав поделить на плацкарт
и купе, все равно ведь сидим в одном. И ехали прилично, как-то даже спокойно,
не как всегда, в общем. Пиво же пить в такую погоду (а солнце, в общем, светило
и поджаривало) — форменное самоубивство. Да и не купили особенно в поезд ничего
как-то, торопились. Главное известие — все ж с интернетом, узнали и раззвонили:
у древних египтян, видите ли, тоже были шутки! Причем только три: сортир,
падающие на голову молотки и гиены (что смешного в ушастых бородавчатых падальщиках
не очень ясно, но, видать, местная древнеегипетская экзотика.). И ну как давай
этой новостью делиться, а вот юмор, древнеегипетский, сортирный! А вот молотки,
падающие! И так далее.
Д: Это Слон принёс, просветитель наш. Он часто
на «мембрану» захаживает.
Г:
«Вы не подумайте, это не гроб ребенка. Это
гроб карлика». Вот именно такими словами
приветствовал нас Майк О’Кун, проводя в свою квартиру на Корейском переулке.
Слева, в кладовке мы наблюдаем вышеозначенный гроб. Сойдя с пойманной и полностью
захваченной маршрутки, музыканты тут же кинулись в санузел, отмываясь от вагонной
духоты и подрюкзачного пота. Разложенные габули заняли всё выделенное пространство.
Ну что ж, пора играть кончерто! «Джем-престиж» похож на погреб. Поэтому Слонец
выкрутил все ручки напогромче (Слонец рулил звук – там самообслуживание в
этом вопросе), чтоб, значит бодрый Димыч барабанами все не перекрыл. Долго
искали ревер в ручках, с привлечением Майка и какого-то левого мужика, утверждающего,
что «должон быть». Нашли.
Было
мясо. Кайфовое, плотное, потное, нажористое, чистое.
Кстати,
в самом начале вечера примчал курьер, принесший пирог. Пирог выглядел аппетитно,
но совершенно непонятно, кто сделал такое. Искали записку, подписанную «Ваш
доброжелатель», спрашивали окружающих, пытались на глаз определить наличие-отсутствие
в пироге яда, но тщетно. Оказалось, что пирог с завлекательной надписью «Dobro
pozhalovat!» как-то связан с Грушей (и начинка, кстати,
там была такая же). Сожрали его вечером, после пельменей, пива, коньяка и
т.д. Вкусный оказался.
Д: Пирог нам прислала хорошая нижегородская
барышня по имени Mary McNine. То, что он оказался с грушей — совпадение,
достойное внимания историков.
Г: Кстати, если кто не в курсе, в Нижнем коммунизм.
Маршрутки ходят за 5-7 рублей куда угодно. Мы на такой в час ночи уехали с
Покровки. И она нас везде довезла. На следующий день мы хотели зайти на Варварку
за вкусным дешевым вином и в Дружкову Кружку за пивом. Но Майк, окончивший-таки
курсы гидов-переводчиков, повел нас на Откос. Звал в Кремль (он-таки выяснил
точное местоположение Коромысловой башни), но получил дружное «НЕТ!», и тогда,
воспользовавшись расслабленным победным состоянием музыкантов, повел их в
парк и свежую грязь.
М:
В следующий приезд в Питер Майка ждет как
минимум подробная экскурсия по Петропавловке. Это же надо — снова ухитрился
затащить нас вместо Дружковой Кружки на осмотр достопримечательностей!! На
этот раз еще и по жирной грязище, так что когда мы все-таки вырвались из парка
и направились в Кружку, обувь у нас выглядела, словно мы только что из коровника.
Мы
привезли в Нижний дождь, и тихие улочки превратились в сплошные грязевые чваки.
После забойнейшего, драйвового концерта в Jam Prestij'е в полной тьме
пробираемся к дому Майка, стараясь не уронить себя, инструменты и припасы
в грязюку. Вечеринка, как ей и положено, продолжалась до утра. Майк и Игорь
пытались вместе спеть про Черный Пруд, но не совпали по мелодии. Горелый стучал
в бойран, Анька читала, а потом завалилась за мебель и слилась с ветошью.
Под утро Майк пошел спать и принимал разные сложносочиненные позы, пытаясь
раздеться. Культурную программу продолжила Моргул, монументально высморкавшись,
следом в комнату вошел Слон и тоже порадовал всех, где-то там во тьме сложно
раздеваясь с металлическим звоном. А когда все отсмеялись и уснули, пан Игорь
по своему обыкновению осознал себя голодным и решил закусить остывшими пельменями.
Пельмени оказались невкусными, и он щедро полил их соусом «тобаско». Весь
ужас совершенной ошибки дошел до него только на пятой пельменине. Мучения
его были столь ужасны, что утром его не стали будить, а только перекатывали
со спальника на спальник, чтобы не мешал собирать рюкзаки.
Г: Вдоволь намесившись нижегородской глины
мы всё-таки двинули в «Кружку»... Взяли хорошего чешского пива, сдвинули бокалы
и ощутили — вот он, последний оплот цивилизации в этом туре перед пугающей
неизвестностью Груши.
М: По дороге к Дружковой Кружке нам достался
счастливый билет — один на всех, и он был поделен и съеден под пиво. На поезд
опять опаздывали, машину не поймать — пришлось разориться на три такси. Зато
к вокзалу подлетали с ветерком по встречке: впереди белая волга, за ней две
серых — не хватало только сопровождающих мотоциклистов и мигалок на крыше.
Группа The Dartz едет по Нижнему.
Г: Одна «волга» была всё-таки с проблесковым
маяком.
Д:
Всю дорогу до Самары в группе царило нездоровое
веселье. Нас томили предчуствия грядущих бытовых невзгод. Ожидалось (и sms-ки
с места это подтверждали), что на Груше день за днём идёт дождь, что там негде
поставить палатку, что там снуют толпы оборванцев, и — самое ужасное! — там
ходят барды, вооружённые гитарами с жёлтыми изгибами. Мы были готовы
к тому, что любой бард мог подсесть запросто к нашему костру, и забормотать
душевную песню о каких-нибудь, прости Господи, перекатах. А ведь там
ещё и с умыванием проблема, и с туалетами напряжёнка; наверняка навалено под
каждым кустом, те же барды и навалили. Поэтому ванна и туалет Майка стали
объектом безмоловного культа. Все впешили помыться и почистить зубы, иногда
по нескольку раз. Ближайшее будущее рисовалась исключительно в грязных и безрадостных
тонах. «Думаю, сынок, что там нам будет не до мытья». Даже коньяк, купленный
в Арзамасе-1, как-то не пился.
М: В поезде проводница увидела наши инструменты и наши
огромные рюкзаки, и сразу распознала в нас едущих на Грушу. Мрачно осведомилась,
будем ли мы себя вести хорошо. Ди с честными глазами ответил, что мы всегда
ведем себя хорошо, а отойдя в сторону добавил, что мы пока ничего ведь не
сделали. Проводница ворчала, что ей с нами не повезло. Это нам не повезло
– окна не открывались, еду купить не успели — опять пришлось есть растворимую
лапшу, которой наелись еще по дороге в Нижний. Снова продолжалась тема древнеегипетского
юмора, начатая с самого начала гастролей. Как известно, в древнем Египте было
три основных темы для шуток: испражнения, падающие на голову молотки, и гиены.
Мы честно пытались переключиться с первой темы на вторую и почти достигли
в этом успеха. О том, чтобы суметь пошутить про гиен, мы даже и не мечтали.
Увы, самарский поезд нездорово воздействует на неокрепшие умы и вызывает приступы
казарменного юмора. На сей раз его жертвами стали прекрасные дамы: Моргул
и Анька и на глазах изумленных и устрашенных Игоря и Деодана несли нечто чудовищно
непристойное, кошмарное, неназываемое.
Г:
Иногда, выглядывая в окна, можно было распознать
всяческую экзотику: платформу «1004 км», «станцию апробации тормозов», и тому
подобное.
Д: Чтобы заглушить тоску, всю дорогу до Самары
мы с Анфисой подтрунивали над Слоном, рассказывая, как его будут принимать
в барды. Во время посвящения в барды, говорили мы, тебе наденут старые потёртые
джинсы, резиновые сапоги, бороду, свитер с длинным воротом, жилетку с нашивками
«Груша-1974» и «КСП Восток», дадут гитару-шиховку и заставят спеть «Изгиб
гитары жёлтой» и «Солнышко лесное». И каждый год потом надо будет совершать
подвиги — ходить в горы и в геологические эскпедиции, сплавляться по Вуоксе,
принимать участие в слётах и петь бардовские песни.
Слушая
эти речи, Слон впадал в ещё большее отчаяние. Бардовскую музыку он ненавидел,
и на то у него были причины гораздо более веские, чем у всех остальных. Когда-то
давно одна экзальтировання особа, поклонница Городницкого, дала ему десять
кассет с тем, чтобы он оцифровал, почистил и отреставрировал звук. Слон подошёл
к вопросу ответственно и со временем привёл записи в божеский вид, благо поклонница
Городницкого не торопила. При этом он, как и любой нормальный звукооператор,
очистил запись от щелчков, кашля, геологических историй и прочего звукового
шума, которым Городницкий любит заполнять паузы в выступлениях. Послушав диски,
поклонница пришла в ужас. «Любой кашель Мастера священнен!»— заявила она и
потребовала всё вернуть на место. Скрипя зубами, Слон принялся переделывать.
Он вернул в паузы геологические истории и бессвязные «спасибы», но кашли —
нет, не так Слон поступил с кашлями! Самый последний диск завершал чудовищный
десятиминутный трек. Здесь были собраны все кашли и кряхтения Городницкого,
найденные Слоном на кассетах. Говорят, поклонница плакала несколько ночей
подряд, но с диска трэк было уже не выкинуть, а сам Слон возненавидел автора
«Атлантов» глубокой и оправданной ненавистью. «А в конце церемонии ОН придёт
тебе в палатку и будет кашлять»,— предрекали мы ему. Слон томно заводил глаза
и просил подыскать ему уединённую палатку, плеер с наушниками и записи «Битлз».
Для реанимации. Ночью он кричал на верхней полке. Если б он знал, что его
ждёт на Груше, то сошёл бы с поезда ещё в Мордовии.
М:
К счастью, скоро показалась и Самара. На
вокзале нас встречали Даша и Марк. Даша провела нас тайными тропами к продовольственному
магазину, где мы в спешке вытрясли из невменяемой продавщицы несколько несуразный
набор продуктов, самым ценным из которого, как впоследствии оказалось, были
сигареты и коньяк.
Электричка
была битком набита грушинским народом. Свои вещи мы свалили огромной кучей,
перегородив вагон, но совесть нас не мучала — тащить все это шмотье нет уже
никаких сил. Печалила только судьба дисков в рюкзаке Игоря, который в силу
своего роста и размера рюкзака перманентно сшибал потолки, на что диски откликались
жалобным хрустом.
Электричка
остановилась на низеньком полустанке посреди леса, и сразу образовалась большая
толпа. Наряды милиции занялись потрошением рюкзаков с целью найти и повыливать
все спиртное.
Г:
Как выяснилось впоследствии, это решение
было пролоббировано местным рынком, на котором можно было купить вообще практически
любой алкоголь.
М:
Мысль о том, что кто-то может взять и вылить
две бутылки семилетнего «Дербента» и витую
бутыль пятилетнего «Магистра» кажется мне абсолютно нереальной, но рисковать
не хотелось. Даша обещала спасти наш скромный запас с помощью полезных связей,
что с блеском и провернула — нас вообще не досматривали. «А их вы почему не
обыскиваете?» «А они – блатные».
Д:
Мы глядели вниз на Грушинскую поляну и видели
палатки, множество палаток, налепленных по лугам и под деревьями. Вниз вела
бесконечная лестница, и по ней уже спускались вереницы новоприехавших. Судя
по дымам, все окрестные рощи и кустарники тоже были заставлены палатками.
Бардов видно пока не было. Наши провожатые вели себя бодро, так как были на
Груше не первый раз. «Всё будет ужасно, но вам понравится»,— повторял Марк.
Внизу по дорогам сновали толпы позитивно настроенных людей, многие тащили
нехитрые грузы, воду или вязанки дров, по сторонам возводились сцены и новые
палатки. Многие стояли в непонятных очередях. Посреди дороги, перегородив людской поток и всем мешая, торчала цистерна с
водой, на борту которой красовалась надпись «Билайн — с нами удобно!». Всё это походило на какую-то компьютерную
игрушку, где надо строиться, типа «Settlers». Кое-где уже всё было заставлено. Народу прибывало на глазах.
 Дойдя
до лагеря, Марк щедрым жестом показал лужайку три на три метра, где нам предстояло
поставить наши четыре палатки — пятачок, уже окружённый другими шатрами грязноватого
зелёного цвета. С ближайшей счены уже доносилась чья-то дурная гитара. «Дембеля,
дембеля», — надрываясь, пел бард. Брезгливо поведя носом, мы отправились искать
новое место. Приходилось перешагивать через чужие верёвки и тюки. «Это Груша»,—
сказала Даша, пожав плечами.
Дойдя
до лагеря, Марк щедрым жестом показал лужайку три на три метра, где нам предстояло
поставить наши четыре палатки — пятачок, уже окружённый другими шатрами грязноватого
зелёного цвета. С ближайшей счены уже доносилась чья-то дурная гитара. «Дембеля,
дембеля», — надрываясь, пел бард. Брезгливо поведя носом, мы отправились искать
новое место. Приходилось перешагивать через чужие верёвки и тюки. «Это Груша»,—
сказала Даша, пожав плечами.
Впоследствии
эту фразу — «Это Груша» — мы слышали неоднократно и сами ей охотно пользовались.
Концерт задержали на два часа — «Это Груша». Мороженное стоит тридцать рублей
— «Это Груша». Пива не купить — «Это Груша». И так далее.
Г: Любое положение дел к концу пребывания объяснялось
этими двумя словами. Очередь в туалет? Нет воды? Нет еды? Кто-то куда-то ушел,
а уже бежать? Мы спим, а в соседней палатке поют «Звезду по имени Солнце»?
Нет линий для подключки? Вода в Волге холодная? Упал в грязь? «Поехали, Дункель»
в пятый раз? Иван Смирнов в шестой? Ответ один.
Оказалось,
что зарезервированное для нас место находится на кромке леса, почти в центре.
Это значит, что слева и справа — сцены, и оттуда будут доноситься звуки, и,
даже хуже того, целые слова. Особенно поразили донесшиеся «Дембеля, дембеля!!».
Экспедиционный корпус двинулся на поиски лучшей доли. Коса. Не то. Народ левый,
удобств нет, до Волги далеко. Берег Волги. Вроде лучше, похоже... Вернувшись, и посовещавшись, решили – ну его нафиг, от
добра добра зачем, лучшее – враг хорошего, и стали ставить палатки.
Д:
Место-то мы нашли, и неплохое, на берегу
Волги, но мудрость и интуиция вдруг пришли и взяли верх, и мы в конце-концов
остановились там, где нам предусмотрел место Марк — на том самом ужасном пятачке
три на три метра, ставшим на несколько дней нашим дарширским лагерем.
М: Мнения разделились. Слон хотел уединения, Анфиса
хотела общения, Юлища — безопасности, Ди сомневался, мы с Игорем — ждали,
как друзья решат, а Горелики — не знаю. Пока специальные летучие отряды ходили
в поисках другого места, мы слушали потрясающий рассказ матушки Марка про
ее недавнее путешествие автостопом в Австралию. Слыхали, стопщики? В АВСТРАЛИЮ!!
Кто-нибудь из вас стопил ООНовский военно-транспортный самолет? После долгих
метаний все решили остановиться на прежнем месте. Только Слон упорно хотел
поселиться на Волге, но все-таки в конце-концов и он вернулся. Правильно —
там не самое безопасное место.
Д: Со временем чужие шатры окружили нас стенка
к стенке, но мы всё равно были видны издалека. Кто-то даже попытался ночью
нагадить у нашей палатки. Ничего. Зато мы оказались в центре событий и не
прогадали, по-моему.
М:При первом осмотре Груши мы нашли несколько
сцен вокруг нас, огромные павильоны Мегафона и МТС, пару весьма удаленных
родников с водой, источник торговли пирожками и... м... места общего пользования.
О них мы поведаем позднее…
Деятельный
Ди помчался договариваться о концертах, остальные возводили жилища. Слон,
приехавший с мало приспособленной для жизни палаткой, пытался улучшить ее
с помощью полиэтиленовых пакетов и ветоши. Из-за недостатка места мы не смогли
растянуть как следует наш брезентовый дворец, и он получился высоким и узким,
зато сверху его украсили полотнищем с Франсуазиг-ом. Вскоре вернулся Ди и
объявил, что скоро наш первый концерт, и что в этом городе нас никто не знает
— надо самим будет пробиваться.
М:
На Груше есть четыре основных сцены, главная
сцена — «плавучая гитара», и несколько альтернативных, не менее известных
сцен. Вот на одной из них — «На пеньках» и началась концертная эпопея The
Dartz . Было уже совсем темно (юг все-таки), у небольшой
сцены сидели и стояли зрители. Исполнители играли по три-четыре песни и уступали
место следующим. Мы долго ждали своей
очереди в довольно разношерстном концерте. Поскольку я далеко не ценитель
авторской песни, здесь и далее о достоинствах выступавших пусть расскажут
другие, зато мне было очень хорошо видно, как быстро увеличивается количество
публики, когда на сцене группа The Dartz. Народ стал хлопать,
подпевать припевы, а затем и пустился в пляс при свете костра. Начало было
очень многообещающим.
Д: Где-то за спинами стоявших в задних рядах
зажгли костры, и на фоне красноватого зарева вдруг стали появляться и исчезать
силуэты прыгающих людей. Там, похоже, был нешуточный хоровод.
Г:
Настрой перед концертом был не очень, да
еще главная администраторша уже с трудом вязала лыко и пыталась пропихнуть
одного-другого (конечно, ребята, ну 10 минут...)
знакомого. Ну наконец-то! Мы выходим, обнаруживаем большое количество
микрофонов, малое количество линии, свет, бьющий по глазам, пьяного Марка,
секьюрити, спрашивающих «вы играть?» и т.д. Как-то подключившись, начали.
Народ стал стекаться, танцевать, кричать «Молии Мэлоун», т.е. «Ирлаандские
поминки давай» и всячески колбаситься. Даже дали лишнего чего-то сыграть.
Д: Марк вылезал на сцену где-то в середине
выступления и пытался нам втолковать, что наше время вышло, пора заканчивать.
Но он был к этому моменту уже очень пьян. А мы как раз вошли во вкус. И я,
по какому-то наитию, глядя в глаза Марку, сказал твёрдым и слегка замогильным
голосом: «Марк! РОДОМ ИЗ ИРЛАНДИИ!». «Глаза гнома остекленил ужас». Мы играли
ещё и ещё...
М:
После концерта мы совершили великое открытие
— нашли небольшой рынок (правда, в изрядном отдалении), где можно было разжиться
какой-нибудь готовой едой, отличной от растворимой лапши и пирожков. Запасшись
водой и ПИРОЖКАМИ, мы отправились бродить по ночному фестивалю. Оказалось,
именно теперь и начинается самая активная деятельность. На сценах всю ночь
шли концерты. Огромные, нигде не заканчивающиеся толпы людей бродили по дорогам,
бесконечный палаточный город мерцал множеством огней, всюду пели, болтали,
смеялись. В небе летали светящиеся шары. Мы послушали несколько концертов
и уже глубокой ночью решили, что пора отдохнуть. Но музыка не прекращалась
ни на минуту. Засыпали мы под какую-то надрывную песню с гостевой эстрады,
а проснулись в шесть утра под душераздирающее исполнение соседями песен «Кино».
Д:
Первой же ночью в небесах зажглись три луны
— луна настоящая, жёлтая луна от «Кодак», и пониже ещё какая-то, красноватая.
Музыка неслась от сцен, и у каждого костра тоже звучали гитары. Можно было
лежать в палатке и, как в стереонаушниках, слушать: справа всю ночь орали
хриплыми украинскими голосами песни битлов, слева и позади у костра пелось
что-то душевное и неразборчивое, старшеклассники пели про «восьмиклассницу»
и «дурака и молнию», а с ближайшей сцены доносилось вездесущее «Поехали, Дункель»,
но, хвала небесам, про «дембелей» мы больше не слышали. Очевидно, это было
что-то вроде музыкальной вакцины для приезжавших. Над палатками склонялись
ветви дуба. Музыкальное полотно вплеталось в сны, и нельзя было сказать, что
приснилось, а что было на самом деле. Однажды под утро я вполуха слышал (во
сне или наяву), как рядом с нашей палаткой кто-то пытается соблазнить нашу
соседку по стойбищу. Девушка отнекивалась твёрдо и немногословно. В конце-концов
невидимый собеседник не выдержал и стал поносить слабый пол вообще и москвичек
в частности. Постоянно, круглые сутки, пелись песни — и даже в шесть утра
нельзя было сказать, «ещё» они поются, или «уже». В девять включались репродукторы,
и на всю окрестную долину объявлялся прогноз погоды, основные события грядущего
дня, результат последнего матча Греция-Португалия, и тому подобные полезные
сведения.
 После
дня в бегах мы засыпали как убитые, и вставали в девять «по Москве». Прочее
население Груши отсыпалось до двенадцати, а хозяева сцен очухивались дай Бог
часам к двум. С утра Поляна напоминала, как выразилась одна бардесса, Бородино:
палатки, дымы, тела, стоны. И, обязательно, в пределах слышимости — перебор
гитарных струн. Не сразу, не вдруг народ вставал к новому дню и спешил устраивать
свой быт.
После
дня в бегах мы засыпали как убитые, и вставали в девять «по Москве». Прочее
население Груши отсыпалось до двенадцати, а хозяева сцен очухивались дай Бог
часам к двум. С утра Поляна напоминала, как выразилась одна бардесса, Бородино:
палатки, дымы, тела, стоны. И, обязательно, в пределах слышимости — перебор
гитарных струн. Не сразу, не вдруг народ вставал к новому дню и спешил устраивать
свой быт.
М:
В родных краях только работа заставила бы
нас встать до 12 дня, на Груше мы подскакивали в девять по московскому времени.
Кто-то высыпался. А лично я просто бросала попытки поспать еще хоть немного.
Д:
Я выползал из палатки обычно часов в девять
(утра), хмуро смотрел на соседский умывальник, споласкивал лицо минералкой
из валяющихся в изобилии баклаг, и шёл добывать группе ангажемент на день
грядущий. Вернувшись через пару часов, я вешал на стенку игоревой палатки
листок с сегодняшним расписанием, и все вылезали завтракать (если было время
и сам завтрак). Иногда завтрак откладывался, и мы просто ели горстями кукурузные
хлопья (и называли это «кормом»).
Г: Вопрос к местным жителям: «А если дождь?..»
«Увидите, на Груше всегда дождь бывает».
Точняк.
Случился дождь. Дороги тут же покрылись гажей — липкой, жирно блестящей, проскальзывающей
и брызгающейся гадостью. Через некоторое время это все превращается в чваку
— то, что месится, разносится по лагерям, залепляет вашу обувь и ноги по колено
и при любом неверном шаге пытается уронить и засосать. Сначала, конечно, это
все не вызывало ну никакого энтузиазма, но потом, когда пришло осознание,
что деться уже никуда никак невозможно, стало предметом шуток, хэппенингов
и инсталляций. Дима рассказывал про двух мужиков в нарядах дедов морозов,
гоняющихся за человеком в синем комбинезоне с криками «Держи Снегурку!». Встречались
и грязевики, с ног до головы обмазанные чвакой. Когда же вышло солнце, безобразие
стало подсыхать, но всячески сопротивлялось и выражало свой протест залипанием
обуви, ног, носков и так далее. Впоследствии можно было бы сложить высокий
курган из сожранных гажей тапочек и босоножек с вырванными ремешками.
Д: Грязь была в огромных количествах,
почти не совместимых с музыкой. Ливень, прошедший ночью с пятницы на субботу
(и фактически смывший сцену, на которой нам предстояло той ночью играть),
превратил все дороги в жижу, в липкое и топкое болото, цеплявшееся за тапки
и не отпускавшее. «Бесполезно,— сказала Даша, вернувшись утром к палаткам.—
Если вам ещё нужны ваши кроссовки, лучше их и не надевайте». Кто как, а я
ходил в это утро босиком. А многочисленные потерянные тапки и шлёпанцы ещё
долго всыхали в грязевую корку, напоминая о дожде. Дорожка, рядом с которой
мы встали, носила гордое название «Улица Спортивная». Весь день вдоль неё
кучковались на сухой траве наблюдатели: во-первых, чтобы проходимцы не топтали
чужие участки, пытаясь пройти посуху, и, во-вторых, народ заключал ставки
— кто из идущих сколько пройдёт, не шлёпнувшись. Что-то в этом есть хоббитское,
да? Я по-пижонски ходил с чашкой чая и не разу не упал. Рядом с оргкомитетом
образовалась самая жирная и широкая лужа. В ней, томно раскинувшись, боролись
два деда-мороза, синий и красный. Оба были вымазаны с ног до головы, шубы
побурели от грязи, а бороды сбились на ухо.
Г:
По дороге на пляж мы видели двух борющихся
и радостно ржущих титанов в шортах, стоящих по колено в чваке. Когда один
победил и заливисто смеясь, тяжеловесно побежал, то поверженный выпростал
руку, набрал полную горсть грязи и, гомерически хохоча, залепил противнику
прямо посередь широкой спины.
Д:
С криком «Лыжню!!!» люди скатывались с крутых
склонов. Всюду была она, грушинская грязь. Однажды упав, грушинец оттягивался
на полную катшку. Грязь выдала всем одну общую грязную индульгенцию. Засохнув,
она и в твёрдом виде не спешила отваливаться.
М:
В сухую погоду дороги были бугристы, но плотно
утрамбованы, словно отлиты из бетона или закатаны асфальтом с помощью безумного
катка. Но стоили пойти дождю — а он, естественно, шел — как все незаросшее
травой пространство превращалось в невероятно липкое, скользкое месиво. Все
склоны сразу же стали почти непроходимы — люди скользили и падали, а тапочки,
завязшие в глинистой грязи, рвались как бумажные. Некоторые веселые наблюдатели
специально стояли на небольших склонах и ставили на то, кто упадет, а кто
пройдет. Нам удалось ни разу не ляпнуться, но свойство этой грязи было таково,
что она была вездесуща. В грязи были миски, одежда, спальники и даже подушки.
Уже значительно позже выяснилось, что она вообще не отмывается, а только соскабливается.
Единственным же средством помыться — было ходить купаться на Волгу.
Рядом
с нашей стоянкой была небольшая протока Волги, но купаться нам в ней вовсе
не хотелось, ибо вода немного напоминала цветом суп. Ходили же мы через несколько
проток на основное русло. Дорога туда вела непростая — то вниз, то вверх по
крутым пригоркам — часто превращавшимся в грязевые липучки. Затем по мостику
надо было перейти протоку и снова вниз и вверх, затем вторую протоку перейти
по плавучему понтону, к которому было причалено несколько катеров (или яхт?)
и уже затем, за песчаной косой блестела сама Волга. Народу на пляже было предостаточно, хорошо хоть вода была достаточно прохладная и
лезли в нее только самые северные из гостей фестиваля — мы, например. Нам
каждый раз не хватало времени от души поплавать. В остальном ощущение было
как на курорте — куча народу на пляже, волны и Жигулевские горы на другом
берегу.
Г:
Удивительные вещи творились с нашей компанией.
Начиная еще с поезда все самовольно просыпались часов в 9-10, еда бесследно
исчезала в желудках, выпитое проходило практически бесследно. Грязь, щетина,
пыль становились самыми естественными вещами.
Д:
Впрочем, организм очень быстро перестроился
и, перестав требовать еды, сократил до минимума и отходы. Не чистить зубы в таком бардаке казалось вполне естественным
и даже правильным. Это же Груша!
М:
Своего костра у нас не было — и очень хорошо.
Мы бы все равно не успевали на нем ничего готовить. Иногда на костре готовила
Даша для нас взмыленных, а мы, как правило, ходили на рынок в надежде чем-нибудь
поживиться. Надо заметить, что цены на грушинском рынке не отставали от московских,
а иногда и решительно вырывались вперед. Вообще с вопросами питания что-то
там было не так: продавцы выражали крайнее нежелание что-нибудь продать, их
приходилось просить. В кафешках за официанткой приходилось идти на кухню,
а потом еще оказывалось, что за супом надо идти самому (хорошо, хоть, не самому
варить), но больше всего нас потрясло, что в один из дней нигде невозможно
было купить пива. Мы отыскали его в одном-единственном кафе на территории
равной Сытному рынку!!! Пиво в Самаре какое-то не такое. Мы пили его «баттлами»,
«торпедами», как там их еще у нас называют? Там их называют «баклагами». Мы
пили его как воду, в страшных количествах, как воду. И самое удивительное!!
(тут шепотом) — оно полностью усваивалось в организме, не ища, как обычно
это бывает, скорого выхода наружу. А знаете почему? Потому, что организм уперся
и не хотел ходить ТУДА!!! В место, которое мы любовно называли «Сральные Ямы»
Д:
Потому что это и были сральные ямы. Я бы
даже сказал — РВЫ! Над ямами были брошены доски с дырочками, и в тёмное время
суток вдоль них выстраивались шеренги молчаливых людей с фонарями на головах.
Ямы, конечно же, смердели. И в самом сочетании «сральные ямы»
чудилось какое-то предвестие грядущих катаклизмов: «сральные ямы разверзлись»,
«сральные ямы идут на город».
М: ...Черно, бездонно и зловонно было место
сие. Длинный ров, прикрытый сверху с некоторыми промежутками досками, где
плечом к плечу вставали человек сорок. По мере увеличения населения фестиваля
очереди туда становились все длиннее, а доски все грязнее. Альтернативой ямам
служили био-параши за 10 рублей, куда очереди стояли ничуть не меньше и в
которых вряд ли было чище, но они хотя бы предполагали некоторое уединение.
После дождя, который превращал грушинские дороги в месиво жирной грязи, становилась
реальной опасность подскользнуться со всеми вытекающими и выплескивающимися
последствиями.
Д:
Однажды я был свидетелем, как солидный мужик,
выходя из кабинки, со слезами на глазах благодарил персонал туалетов: «Спасибо,
девочки! Как с родными повидался!». Словом, это было актуально и пикантно,
чёрт возьми.
М:
Эти Черные Ямы Зазу породили целый слой народного
фольклора. Их темная, роковая мощь довлела над нами и на ум приходили какие-то
выражения типа: «Сральные Ямы разверзлись» или «Сральные Ямы извергли свои
пучины». Но сколь ни ужасны они были — были и у нас силы противостоять им,
и в беспросветной южной ночи из самого эпицентра неслось героическое пение:
«Они стояли ровно в ряд — их было восемь!!» А вот Слон каждый раз лез для
ЭТОГО на гору — то ли из индивидуализма, то ли выразить свое отношение к фестивалю.
Д:
Да уж, Гаврилыч не ходил в Сральные Ямы.
Наверное, опасался встретить там Городницкого, боялся не совладать с собой.
Городницкий, кстати, на эту Грушу и не приехал. Вооружившись фотоаппаратом,
Слоник поднимался на грушинскую Гору, и там, на вершине, в гордом одиночестве,
он совмещал приятное с полезным. После чего, спустившись, рассказывал нам,
какие там, наверху, ВИДЫ. Вообще Слон был богат на афоризмы. Само его жильё
было насмешкой над Грушей. Дело в том, что в самый последний момент Слон остался
без полога для палатки. Будучи от природы практичным, он смекнул, что полог
нетрудно сделать и самому, отчего все полиэтиленовые пакеты надлежало не выбрасывать,
а сдавать ему. Возможно, во временем Слон стал бы похож на Полиэтиленового
Человека, но полог для него всё же нашёлся.
 М:
Слон, изначально оппозиционный фестивалю,
мужественно переносил все окружающее. «Ну как настроение, Слон?» «Ничего.
Кругом говно, но я не сдаюсь!»,— весело ответствовал он, жуя булку. Надо отметить
что он поставил себе две главные задачи: прожить эти четыре дня на Груше и
добыть шкуру барда. Первую задачу он успешно выполнил, а вторую — наполовину:
добыл очки барда.
М:
Слон, изначально оппозиционный фестивалю,
мужественно переносил все окружающее. «Ну как настроение, Слон?» «Ничего.
Кругом говно, но я не сдаюсь!»,— весело ответствовал он, жуя булку. Надо отметить
что он поставил себе две главные задачи: прожить эти четыре дня на Груше и
добыть шкуру барда. Первую задачу он успешно выполнил, а вторую — наполовину:
добыл очки барда.
Д:
А что же барды?.. А вот бардов, скажу честно,
как бы совсем и не было. Нет, они, конечно, встречались у костров, и особенно
часто — на прослушиваниях. Но вот на сценах почему-то не выступали. Наверное,
не проходили эти самые прослушивания.
Г:
Дима ходил по площадкам, брал их за белые
груди и ногами выбивал место и время. Некоторые, незакосневшие, сразу предлагали,
завидев шагающего решительной походкой и с огнем во взгляде Борисыча «Давайте!».
Некоторые, не слышавшие в своей глуши про суперкоманду «MEGADARTZ» мялись, тушевались и тихо сопели: «А пройдите,
что ли, прослушивание...» Приходилось опять завоевывать имя.
М:
Прослушивания представляли собой стол с жюри
в чистом поле, к столу стояла длиннющая очередь из музыкантов, изнывающих
на солнцепеке. В жюри надо было подать заявку, анкету и тексты двух песен,
а потом, когда подойдет очередь — спеть песни, и тогда жюри выставляло оценки
и разрешало сыграть одобренную песню на сцене. В очередях на прослушивание
мы жарились часами. Однажды Юлища с Анькой даже принесли завтрак в очередь.
Драгоценная «Ibaness» оказалась
очень нежной и расстраивалась от солнца, от ветра, и всяких температурных
колебаний. Подзвучка была только у анфисиной скрипки, остальные играли как
могли, а Слон вообще не носил с собой басуху, только пел. Одно из прослушиваний
успешно прошла песня... какая?... Правильно — «Холодные камни». Вот их-то
и исполнили на второй сцене. Звук описывать не буду, поскольку ребятам на
сцене он казался лучше. Пусть это останется только в памяти слышавших. Ясно
было одно — сцены тут вовсе не рассчитаны на пять инструментов и четырех поющих.
Строиться времени не было — кое-как включались, надеясь, что в зале будет
слышно хоть кого-то. Звукооператоры за пультом либо начинали безумно метаться,
не зная как справиться с неожиданной напастью, крутить ручки, либо равнодушно
сидели в сторонке — не первая группа, не последняя...
 Д:
Мы проходили эти прослушивания, параллельно
играя нормальные концерты для нормальных людей. В конце главного трехэтапного
прослушивания маячила сцена на «Гитаре» и прямая телетрансляция, и никаких
прочих обязательств эти прослушивания не налагали — так что почему бы и нет,
решили мы. Правда, группа потеряла кучу времени, ожидая своей очереди выйти
и исполнить две-три песни. В финал мы, к сожалению, не вышли. У меня есть
серъёзные сомнения по поводу того, может ли команда с английским названием
и мрачной песней про холодные камни получить официальное признание грушинского
комитета.
Д:
Мы проходили эти прослушивания, параллельно
играя нормальные концерты для нормальных людей. В конце главного трехэтапного
прослушивания маячила сцена на «Гитаре» и прямая телетрансляция, и никаких
прочих обязательств эти прослушивания не налагали — так что почему бы и нет,
решили мы. Правда, группа потеряла кучу времени, ожидая своей очереди выйти
и исполнить две-три песни. В финал мы, к сожалению, не вышли. У меня есть
серъёзные сомнения по поводу того, может ли команда с английским названием
и мрачной песней про холодные камни получить официальное признание грушинского
комитета.
Нам,
впрочем, с головой хватило и неофициального.
Хочу,
однако, рассказать про одно прослушивание, на котором все точки над i были расставлены, и с которого мы вернулись
очень гордые собой. Случилось оно в лесу за первой сценой, и предназначалось
исключительно для того, чтобы доказать худрукам этой сцены, что мы не прохиндеи
и что мы умеем играть. Туда мы примчались взмыленные, отыграв то ли концерт,
то ли другое прослушивание, и вот что мы там увидели. На полянке стоял стол.
За ним сидело человек пять бардов. Перед ними стоял человек с гитарой, в поношенных
джинсах, в свитере и жилетке с нашивкой «Груша-1974», бородатый и плюгавенький.
У Слона засверкали глаза: он увидел барда! Бард пел — негромко, проникновенно
и очень плохо. Закончив песню, он выжидательно посмотрел на комиссию. Самый
Старший Бард берёт листок с текстом (а тексты на прослушивание предоставлялись
в обязательном порядке), и говорит: «Неплохо, Олег, но судите сами. Вот вы
поёте: «изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь... э-э... нежно». Но посмотрите на
свою гитару: разве у неё жёлтый изгиб?» Бард смотрит на свой «вестерн», на
котором изгибов нет вообще, и опускает голову. «Хорошо,— продолжает председатель
комиссии.— Или вот вы поёте: «милая моя, солнышко лесное». А какие ассоциации
это ваше «солнышко лесное» вызывает? Вот у вас лично? Правильно! И у нас медведь.
Давайте так, Олег. Мы вам выдадим пропуск на первую сцену и вы сможете сыграть
песню про изгиб, а про медведя не надо, в нашей программе. Ваше время с двенадцати-десяти
до двенадцати-пятнадцати послезавтра. И попробуйте поработать над текстом...
Я понимаю, что вы хотели использовать метафору... но, понимаете ли, это неудачная
метафора. Давайте мы завтра ещё к этому вернёмся».
 М:
Борисыч злорадно заблестел глазами и бросился
переписывать тексты со всеми подробностями, специально вставив в программу
«Полсотни лет».
М:
Борисыч злорадно заблестел глазами и бросился
переписывать тексты со всеми подробностями, специально вставив в программу
«Полсотни лет».
Д:
И вот, прямо в лесу, положив бумагу на кейс
с мандолиной, ваш покорный слуга выводит буквально следующее:
Когда пройдёт полсотни лет!
Когда пройдёт полсотни лет!
Когда пройдёт полсотни лет!
Когда пройдёт полсотни лет!
В твои глазах потухнет свет!
Лала-лала-лэйло!
Лала-лала-лэйло!
Лала-лала-лэйло!
Лалала-ло!
Лала-лала-лэйло!
Лала-лала-лэйло!
Лала-лала-лэйло!
Лалала-ЛО!!!
Мы сдаём эти опусы,
дожидаемся своей очереди, выходим. Барды, ещё не зная, что их ждёт, каламбурят
насчёт названия, замечая, что «дартс» как игра состоит из дротиков и мишени
— и что же в таком случае мы? Я игриво отвечаю в том духе, что мы обычно активная
часть этой системы, т.е. дротики, но сейчас — очаровательная улыбка — мы скорее
мишень... Комиссия улыбается, готова слушать. Мы играем первую песню. Нас
не останавливают и не о чём не спрашивают. Играем вторую... Молчат. Играем
вот эту, где «лала-лэйла». И вопросительно смотрим на комиссию. Над поляной
висит предгрозовая тишина. Потом главный бард говорит: «Ребята, я чувствую
себя дураком». После этого он делает паузу, отчего мы решаем, что прослушивание,
хвала небесам, завалено, и можно бежать играть следующий концерт. Но он продолжает:
«С одной стороны — это очень круто, я бы хотел иметь ваши диски и вообще такую
музыку под боком, и удивительно, что есть такие музыканты, это очень красиво
и профессионально итд итп. Выпускать вас в одной программе с нашими бардами
нельзя: это будет избиение младенцев. Поэтому мы предусмотрим для вас что-то
вне общей программы. Но с другой стороны... ЕДРЁН БАТОН! Вот мы тут боремся
за ТЕКСТЫ. Мы за ПОЭЗИЮ тут, блин, боремся! Мы хотим, чтобы был СМЫСЛ. И где
же смысл вот в этом, а, ребята?»
Я-то,
если честно, всегда считал, что в текстах The Dartz смысл имеется, и
даже иногда больше, чем нужно. И что мы такие же фолк-сингеры, как и прочие
здешние бедолаги с гитарами. One of the kind, как говорил Шрек. И все мы любим на досуге почитать Бродского,
Заходера, Пушкина, и что-нибудь такое ввернуть в текстик. Но когда доходит
до пения... Тут, ребята, музыка имеет такие же права, как и слово. И слово
должно течь, как река... Если в тексте есть «смысл», но слова при этом топорщатся,
как бревна против течения, нафиг нужен такой смысл. А народная традиция, вдобавок,
идёт от звукоподражания, от наговоров, так что смысла в песнях, идущих от
народной традиции, и того меньше. И так далее... Всё это мы с улыбкой излагаем
невесёлым бородатым товарищам в свитерах. При этом у них на лицах явственно
читается ход мысли, решение задачи, поиск выхода из положения. Потому что
очевидно, что никто не ожидал здесь такого финта ушами. И что это круто, видно
невооруженным глазом, и что это совсем не то, им тоже ясно.
В
конце-концов решается изолировать нас от бардов, как несовместимое с авторской
песней явление. Как существо внешне похожее, но с другим метаболизмом. Взамен
нам предлагается сыграть получасовую программу на первой сцене в удобное для
нас время. Что расценивается как победа, учитывая тот факт, что все играют
обычно по 15-20 минут. Расстаемся мы в лёгком офигении; вся комиссия жмёт
руки, а немногочисленные зрители апплодируют.
М:
Не в конкурсе дело, а в том, чтоб свою позицию
утвердить. И мы ее утвердили. Жюри рассыпалось в комплиментах, но в конкурс
не поставило — среди бардов таким фолк-мордам делать нечего. Обещали дать
кусочек времени на выступление. Дали. Ошибся бы тот, кто бы назвал звук на
этом выступлении восхитительным, но начало для утверждения фолк-рока на Груше
было положено.
Д: Как водится на Груше, то выступление нам
всё-таки подрезали какие-то настырные рекламщики, и играли мы там минут десять
на очень плохом звуке («ребята, это Груша», — сказал нам звукооператор), но
факт остаётся фактом: позиция была заявлена, грамотно защищена от нападок
— и, в конечном счёте, ну какие у бардов были шансы устоять против банды сработавшихся
кельтоманов?
Тем
более что тон на этой Груше задавали вовсе не барды...
М:
Самыми интересными концертами нам (в данном
случае речь о нас с паном) показались виртуозный Смирнов и первый концерт
Козловского с Ваней Жуком. Ваня Жук вообще постоянно попадался навстречу непременно
в веселом и беззаботном настроении. Встретился нам также и еще один замечательный
человечище — Леонид Сергеев, вот его выступления очень жаль, что мы не слышали.
Д:
Теперь и я хочу рассказать о географии грушинских
сцен. Всего официальных площадок было четыре. Первая располагалась непосредственно
при входе на поляну. Человек проходил ярмарочную аллею и справа от себя видел
небольшую эстраду — это и была первая сцена. Далее шла вторая. Она была немного
побольше и располагалась в глубине. Именно с неё в первый день доносилась
дурацкая песня-вакцина про дембелей. Наш лагерь располагался в точности между
второй и третьей сценами. Поэтому, находясь в палатке, можно было слушать
выступающих. Третья сцена была самая официальная площадка — рядом с ней стоял
автобус, набитый аппаратурой, в том числе и телевизионной. Перед сценой располагалась
длинная поляна, и, когда из динамиков доносилось что-нибудь малоинтересное
(как правило, днём), народ лениво загорал по всему «залу», не утруждая себя
апплодисментами. Наконец, четвертая сцена располагалась слегка на отшибе,
но именно на этой площадке наша дартширская команда и оттягивалась так, как
оттягивается обычно в Питере или Москве.
Г:
Была еще одна альтернативная, но доносящиеся
оттуда звуки и слова не располагали к прислушиванию, а тем паче, к приближению.
Д:
Были ещё и «частные площадки». Во-первых,
«Пеньки» — лужайка перед пеньками по пути на Волгу. Была сцена и у тусовки
«32 августа» — ещё ближе к Волге. В лесах между третьей и четвертой сценами
находилось «Зазеркалье» — великолепная сцена, похожая на театр. Наконец, где-то
далеко за четвёртой находилась некая «Чайхана» — но на ней мы не то что не
сыграли, но даже и дойти поленились, узнав, что там проходят концерты шуточной
бардовской песни. Возможно, эти слухи не имели под собой оснований.
Странно,
но после «Разговора у телевизора» и «Дорогой передачи...» подавляющее большинство
отечественных фолк-сингеров избрало для себя именно эту модель исполнения
«шуточных» песен: бормотание и ёрничание, и при том — каменное лицо у слушателя
и у исполнителя. Почти ничего стоящего в этом жанре не появилось. То, что
выходило у Высоцкого, не срабатывало у других! Иногда на Груше приоткрывалась
завеса, скрывающая внутренний мир бардовского течения, и там вдруг — странно,
если б было иначе! — обнаруживались свои стили и тенденции, свои стили и каноны.
Свои дубовые шаблоны. Например, «На далёкой Амазонке» как была исполнена когда-то
с этакой задорной улыбочкой, так все потом её так и пели, даже не пытаясь
по-своему взглянуть на песню.
Ну,
впрочем, мы не слишком вникали в бардовское творчество. Потому что, когда
темнело, и начиналось самое концертное время — часов после одиннадцати вечера
и до двух-трёх ночи — куда бы ты ни пошёл, ты обязательно натыкался либо на
Смирнова, либо на Козловского. Это были два главных аттракциона Груши, по
крайней мере, для нас. Они не пели шуточных песен. Это были серъёзные дядьки.
Помню,
в первый вечер после выступления на «Пеньках» мы решили поразвеять неизрасходованный
адреналин и отправились гулять по фестивалю. В час ночи было уже совсем темно,
народ клубился на улицах, размахивая фонариками и светящимися палочками. Все
сцены и павильоны были ярко освещены, отчего центр Груши походил попеременно
то на ярмарку, то на цирк-шапито. Над долиной стлались дымы, повсюду жгли
костры, некоторые палатки светились изнутри, как китайские фонарики. Иногда
от дыма было трудно дышать. Над всем этим, как знамение, неподвижно висели
три луны. Все были трезвые и радостные. Чувствовалось, что праздник идёт на
подъём. На всех сценах кто-то выступал. На первой мы с удивлением обнаружили
наших земляков, «Зимовье Зверей». Постояв и послушав, я лишний раз убедился,
что это не моё. На второй сцене творилось что-то, на первый взгляд относящееся
к области бардовской песни. Но, постояв немного, мы вдруг поняли, что уже
не хотим никуда уходить: уж очень красиво звучала гитара и голос, да и песни
оказались хорошие. «Поехали, Дункель», например. За этой весёлой песенкой
скрывалось что-то очень грустное. И мы остались слушать. На сцене было двое,
и вскоре во втором гитаристе я с удивлением узнал Ваню Жука, который не только
наш бывший земляк, но мы ещё и концерты вместе играли, выступая на одних сценах
и одних фестивалях.  Жук
зажигал вовсю. Со своей угловатой пластикой он был похож прямо-таки на Пита
Таушенда, и это уже было совсем не по-бардовски. А Козловский (так мы впервые
услышали этого музыканта) пел свои песни, и народ (а народу было море) пел
хором с ним, вращал фонарики и устраивал овации после каждого номера. Ветви
дубов и клёнов трепетали от музыки и легкого ветра. По энергетике это было
похоже на хороший стадионный рок-концерт, но концерт без официоза, многолюдный,
но в тоже время не утерявший интимности. А на сцене был всего-то человек с
гитарой. Но он был мощный, как Боб Дилан. Песни Козловского многие здесь знали
наизусть. Вскоре их наизусть знали и мы: его пыльный голос, поющий «Поехали,
Дункель», «Деревянная Голова» и «Это не то, о чём я буду думать» звучал в
те дни с каждой сцены. «Кто-то выпил всё пиво»,— бывало, говорил кто-нибудь,
и кто-нибудь обязательно добавлял,— «но это не то, о чём я буду думать».
Жук
зажигал вовсю. Со своей угловатой пластикой он был похож прямо-таки на Пита
Таушенда, и это уже было совсем не по-бардовски. А Козловский (так мы впервые
услышали этого музыканта) пел свои песни, и народ (а народу было море) пел
хором с ним, вращал фонарики и устраивал овации после каждого номера. Ветви
дубов и клёнов трепетали от музыки и легкого ветра. По энергетике это было
похоже на хороший стадионный рок-концерт, но концерт без официоза, многолюдный,
но в тоже время не утерявший интимности. А на сцене был всего-то человек с
гитарой. Но он был мощный, как Боб Дилан. Песни Козловского многие здесь знали
наизусть. Вскоре их наизусть знали и мы: его пыльный голос, поющий «Поехали,
Дункель», «Деревянная Голова» и «Это не то, о чём я буду думать» звучал в
те дни с каждой сцены. «Кто-то выпил всё пиво»,— бывало, говорил кто-нибудь,
и кто-нибудь обязательно добавлял,— «но это не то, о чём я буду думать».
Мне
показалось, что Козловский был любимым исполнителем фестиваля. Иногда он выступал
с «Грассмейстером», но чаще без, и его сольное исполнение мне нравилось больше.
«Грассмейстер» эту магию как-то придавилвал своим стандартным рок-звучанием.
На главном фестивальном концерте (на плавучей гитаре) Козловский сыграл песню,
которую я для себя окрестил «Грушинской Let
It Be» — «Гора, гори!». В
черной ночи весь склон Горы был похож на ёлку с множеством разноцветных огней
— это сидела грушинская публика, тысячи разноцветных поющих светляков.
М:
Козловского мы слышали перманентно, что в
конце-концов привело к маленькой акции протеста с нашей с Игорем стороны.
Душу утешали, представляя себе группу «Белфаст» на грушинском фестивале —
прослушивание: Шон стоит над жюри и взирает в упор на них, Эльхана бесстрастно
курит, глядя в сторону, Папа Джон поодаль листает порножурнал, Егор демонстирует
всем статью в «Рокмьюзик»...
Д: Был ещё и Иван Смирнов со своим ансамблем:
Мишей Смирновым, Клевенским и ещё одним гитаристом. Эти тоже чудили и зажигали
повсюду, куда бы ты не пришёл после наступления темноты. Смирнов был похож
на Джаггера с гитарой, Смирнов-младший колдовал на перкуссиях, Клевенский
окрашивал всё в зеленоватые кельтские тона, а листья дубов и клёнов опять
трепетали от музыки и положительных вибраций. Анфиса ходила сама не своя от
смирновской музыки, и старалась не пропускать их концерты. Перед выступлением
на «Пеньках» мне посчастливилось взять у маэстро автограф на диске «Крымские
каникулы». Правда, музыка на самом диске оказалась похожей на саунд-трек к
эротическому фильму. Но это было неважно. На Груше смирновская команда исполняла
материал с их двойного концертного альбома (который я незадолго до этого подарил Игорю на день
рождения). Звучало очень похоже, но, разумеется, музыканты не упускали случая
вдохновенно поимпровизировать. На последнем концерте мне понравилась даже
кабацкая по духу композиция «Братан», украшенная длинным соло на перкуссиях,
к которому иногда присоединялся глумливый Клевенский: он глумился над Смирновым-младшим,
а Смирнов-младший увлечённо выдавал затейливые полиритмы. Смирнов-старший
наблюдал, не вмешиваясь; иногда, впрочем он подходил и с умилением целовал
сына в макушку.
Флейтист
Клевенский, кстати, выходил на сцену и с Козловским-Жуком. Получилось очень
странное трио, но очень клёвое: неторпливые баллады а-ля Дилан, но с кельтскими
дудками. На последнем концерте они оказались на сцене сразу все: и «Грассмейстер»,
и Козловский, и Жук, и Клевенский. При этом Ване, очевидно, что-то забыли
подключить, отчего он преувеличенно комично заметался по сцене, стуча по гитаре
и сокрушенно размахивая руками. В динамиках послышался треск, и великий российский
гитарист, наконец, зазвучал в порталах.
«Грассмейстер»
оказался обычной добротной рок-командой, умеющей играть и кантри, и рэгги (но вы бы слышали их рэгги-версию «Изгиб
гитары жёлтой» — единственный раз на фестивале, когда я слышал эту песню со
сцены). Растаманы, кстати, на фестивале тоже были, и одна такая команда выступала
однажды перед нами. Называлась она «Экспедиция особого настроения», двое ребят
из Челябинска, немного похоже на «5nizza». Солнечная позитивная музыка. Вообще на этом фестивале
о группе судили даже не по музыке, а по тому, сумела ли она разогнать тучи
за время своего выступления. Очень часто это удавалось и нам. А тучи ходили
по небу постоянно.
Кантри
на фестивале тоже звучал. Иногда на сцене мелькала и нэшвилл-гитара (вроде
той, что изображена летящей на обложке альбома «Братья по оружию» группы «Dire Straits»). Как ни странно, с нэшвилл-гитарами ходили многие барды. Я же ходил с мандолиной
и чувствовал себя диссидентом.
Много
пели. Что особенно приятно, за четыре дня мы почти не слышали плохого пения;
все пели красиво, громко, и почти всегда — разложившись по голосам. Благодаря
великолепно отстроенным микрофонам, голоса звенели и сливались, разносились
над рощами и шатрами.
Была и этническая
музыка. Да что там, была даже ирландская музыка! В первый же день, проходя
мимо четвёртой сцены, я услышал команду, старательно исполняющую рил «Fairy’s Dance». Больше я их, правда,
не видел, но факт остаётся фактом: была кельтика, была. А из чистого этно
нам удалось послушать команду «Птица Тылобурдо». Она очень понравилась Анфисе
и абсолютно не понравилась остальным участникам группы. Тихое, почти бесплотное
обрядовое женское пение. Хотя, стоит отдать должное — они очень талантливо
настроились и во время звучания создавалось ощущение чего-то тянущегося, хрупкого,
хрустального. После двух-трёх песен, правда, хотелось лечь и уснуть.
 И
сейшенёры тут тоже были. Иногда на перекрёстках вспыхивали стихийные драм-сейшны.
Туда сбегались все, у кого находился джамбей, дарбука или хотя бы пустая кастрюля.
Найдя нужный ритм, сейшенёры могли играть часами. Как правило, после такой
музыки разражался многочасовой лютый дождь. Пару раз у обочины я видел группу
людей с барабанами и диджериду. Это приехал «Добровольный оркестр хемулей»
из Москвы. Правда, дождь им вызвать так и не удалось. На диджериду ведь тоже
учатся играть, правда?
И
сейшенёры тут тоже были. Иногда на перекрёстках вспыхивали стихийные драм-сейшны.
Туда сбегались все, у кого находился джамбей, дарбука или хотя бы пустая кастрюля.
Найдя нужный ритм, сейшенёры могли играть часами. Как правило, после такой
музыки разражался многочасовой лютый дождь. Пару раз у обочины я видел группу
людей с барабанами и диджериду. Это приехал «Добровольный оркестр хемулей»
из Москвы. Правда, дождь им вызвать так и не удалось. На диджериду ведь тоже
учатся играть, правда?
Г:
Очень было много разного народа. Молодежь
с гитарами. Подростки с гитарами. Мужики и тетки с гитарами. Дедушки и бабушки
с гитарами. Барды с гитарами. Бардессы с гитарами. Гопники... просто так.
Никогда, кстати, не думал, что в мире так много гопников. Кришнаиты с барабанами. Работники «МТС», «Мегафона»
и «Билайн» в фирменных футболках. Менты. Кузнецы. Дети. Торговцы всем.
Д:
Кришнаиты днём разгуливали по пыльным дорогам
поляны, а ночью били в барабаны и пели мантры. Их лагерь, по слухам, располагался
где-то в лесах за первой сценой. А перед первой сценой виднелась походная
часовня с православным крестом. Нас звали туда играть, но мы почему-то не
пошли. На дороге можно было встретить даже папуаса, голого, в длинной травяной
юбке. Прямо в грязи сидели люди и сторожили свои мобильные телефоны, воткнутые
на зарядку в стену розеток. По ночам накурившийся народ приставал к обладателям
светящихся палочек с просьбой поведать о планах захвата Земли. Наконец, тут
были люди-с-гудками. Гудки продавались повсюду. При своих маленьких размерах
и невыскокой цене они издавали громкие и мерзостные звуки, слышные издалека.
Я никак не могу понять, что заставляет человека, слушающего, скажем, концерт
Смирнова, время от времени подносить к губам эту штуковину, и вплетать в музыку
свою отвратительную нестроящую ноту. Восторг, наверное. Или это тоже были
инопланетяне. Словом, здесь были все. Настоящее Бородино. «Прикинь, у меня
свастика стёрлась»,— доносилось из проходящей толпы. И если не считать того, что на Груше друзьями казались все, и даже
бритоголовые молодцы пусть кривенько, но улыбались — на огонёк заходили и
настоящие друзья, без которых Груша не была бы Грушей.
Марк
и Даша, которые зазвали нас на Грушу, были самарцами (или самаритянами?).
Они встретили нас на Самарском вокзале и отвезли на фестиваль. В их речи была
одна характерная поволжская особенность, которая нас очень веселила, такая
забавная модуляция вверх при обращении к собеседнику — «маАрк», «даАш». На
фестивале это слышалось тут и там. Мы и сами потом стали так говорить. От
концерта к концерту группа обрастала хвостиком интересующихся и просто поклонниц.
Кое-где уже узнавали. Игорь, вернувшись от Сральных Ям, хвастался, что его
там узнали и сказали «спасибо». В последний день Аня Олефир, подруга Деодана,
дала настоящий мастер-класс по ирландским и бретонским танцам для всех желающих
научиться полькам и кастарватам. Выглядело это феерически, и было, как я подозреваю,
первым мастер-классом по кельтским танцам, проведённым на Груше.
Разумеется,
в первый же день мы встретились с «Вересковым Мёдом». Они были на Груше со
вторника, приехали как взрослые люди на автобусе с региональными бардами,
и вовсю уже выступали. Поэтому пару дней мы только встречались на перекрёстках
и тут же разбегались. Правда, потом мы зашли к ним в лагерь, но там было очень
дымно, и долго мы там просидеть не смогли. Зато вечером пришла Наталка, принесла
коньяк, и мы очень мило проболтали в палатке под шум дождя в ночь с пятницы
на субботу. У нас как раз из-за дождя сорвался очень нажористый концерт на
«Пеньках», поэтому, боюсь, я был в тот вечер не лучшим собеседником.
 Коньяк,
кстати, пился исключительно в утилитарных целях — чтобы взбодриться между
выступлениями. В этой свистопляске о спиртном как-то не вспоминалось. На месте
оказалось, что можно прожить и без алкоголя. Большие баллоны с пивом (которые
здесь назывались «баклаги») выпивались как вода. Перед последним концертом
Игорь ухитрился выпить ШЕСТЬ таких баклажек, и вышел на сцену в сильно приподнятом
настроении, хохоча и отплясывая. Но, думаю, его пёрло бы и без баклаг.
Коньяк,
кстати, пился исключительно в утилитарных целях — чтобы взбодриться между
выступлениями. В этой свистопляске о спиртном как-то не вспоминалось. На месте
оказалось, что можно прожить и без алкоголя. Большие баллоны с пивом (которые
здесь назывались «баклаги») выпивались как вода. Перед последним концертом
Игорь ухитрился выпить ШЕСТЬ таких баклажек, и вышел на сцену в сильно приподнятом
настроении, хохоча и отплясывая. Но, думаю, его пёрло бы и без баклаг.
Так
вот, «Мёды» тоже шли через те же идиотские прослушивания, и были очень близки
к «Гитаре», но кому-то в последний момент не понравилась их «Песня нанайского
охотника», и они остались только дипломантами. «У нас не глубинка, у нас глубина!»—
объявлял со сцены Паша-гитарист, и они колбасили... За «Мёдами» тоже ходил
хвост поклонников от концерта к концерту, их узнавали на улицах. В последний
день мы с частью «Мёдов» немного посейшенили, помогая им продавать собственноручно
изготовленные феньки. Конечно, мы пообщались меньше, чем хотелось бы. Я, впрочем,
ещё не видел фестивалей, где удавалось бы по-человечески пообщаться с тем,
с кем хотелось бы. А на Груше, странное дело, мы даже ни разу не посидели
у костра. Хотите верьте, хотите нет. «Приходили в десять, у нас посиделки»,—
говорили по утрам люди из лагеря «Зазеркалье», выставляя на стол десятки пустых
вчерашних разноразмерных бутылок. Костры и посиделки были повсюду. Мы хоть
бы раз присоединились. Зато и похмелье по утрам не мучало.
Ещё
кто радовал, так это Ваня Жук. Едва завидя проходящих мимо дартсов, Ваня вскакивал
с гитарой, и бежал, совершая руками характерные жесты — он уже был в курсе,
что похож на сцене на Пита Таушенда. С Жуком мы пересекались постоянно, и
всякий раз перебрасывались парой словечек. И это непременно поднимало настроение.
Да и Ване, я надеюсь, это было в кайф. «Где ты играешь?»— спрашивал я. «А
я как солдат у Козловского,— шутил Жук.— Он говорит, в восемь там-то и там-то,
мы отвечаем «есть!».
Наконец,
были и такие персонажи, которые на Грушу приехали, но не выступали, или такие,
которые вообще весь фестиваль просидели у своих костров, тихо напевая Владимира
Семёновича. Им были одинаково безразличны и Смирновский, и Козлов. У четвёртой
сцены время от времени появлялся абсолютно косой Силя. Видели, по слухам,
и Башакова, но где они выступали и выступали ли вообще? Я часто себя ловил
на том, что многие из моих знакомых очень хорошо смотрелись бы на Грушинских
сценах и улицах. Шон и Бурмистров со своими песнями, сейшенящий Reelroadъ, Митя Максимачёв и «Башня Rowan», думаю, нашли бы себе место в этом бардаке.
И
наоборот. Кое-что, помещёное за пределы Поляны, теряло свою магию. Уже дома,
послушав диск Козловского с «Грассмейстером», я удивился, как эту мутотень
можно было слушать живьем. Однако же вот, слушали с удовольствием и подпевали.
Словом, это был какой-то особый, грушинский контекст, позитивное четырёхдневное
помешательство, если хотите. Русский Вудсток, или, скорее, музыкальное Бородино.
В
последний день пошли сейшенить и мы. Причин было две: во-первых, шило в заднице,
во-вторых — необходимость распродать до отъезда все оставшиеся диски. На перекрёстке
быстро собралась толпа. В толпе стали отплясывать мужики в лифчиках. Когда
их громко обозвали трансвеститами, они сперва обиделись и нацелились было
подраться, а потом смягчились и попросили исполнить «что-нибудь женское».
Мы ничему не удивлялись — ведь «это Груша». Играли мы в-основном нехитрые
питерские тьюны, перемежая их песнями и импровизациями. Диски разошлись на
ура, и на вечерний концерт ничего не осталось.
М:
Самый главный концерт Груши — это концерт
на «плавучей гитаре». Зрители при этом рассаживаются по огромному холму на
берегу протоки и во тьме ночной загораются тысячи огоньков: фонариков, свечей,
зажигалок, мерцающих палочек. Гора мерцает и переливается огнями. А во время
кульминации праздника фонарики зажигают все — и гора просто горит. При этом
поют песню: «Раз, два, три – гора гори», «пять, шесть, семь — сгори совсем»,—допела
Даша. Главный заключительный концерт — главная радость и для музыкантов и
для публики.

Наш
последний концерт был вечером следующего дня после «Горы». Мы играли на четвертой
сцене, где нам отвели наконец-то не две-три песни, а целых полчаса, а может
и больше. Перед концертом ребята пошли посейшенить на перекрестке и вызвали
фурор у публики. Разошлись все диски, и к вечернему концерту их осталось пять
штук. Анька провела первый на Груше мастер класс по ирландским танцам, чтобы
подготовить танцоров к пляскам. На радостях мы выпили шесть баттлов пива —
видимо поэтому чуть не опоздали на выступление. Четвертая сцена находилась
несколько на отшибе от центра фестиваля, зато как раз напротив той самой Горы.
Сцена находилась под небольшим холмом, а зрители сидели на склоне выше. Сидели?
Нет!! Они прыгали, плясали, размахивали фонариками. Танцоры вовлекали в свои
ряды все больше и больше народу. А на последней песне «Концерт для двух елей»
— все взялись за руки и все вместе пели. Это была наша маленькая Гора.
Д: Момент был трогательный. Сразу как-то забылись все
грушинские передряги, которых было, если честно, с головой. Чтобы выступать,
нам приходилось всюду лезть и пробиваться. Изначально планировалось, что группу приглашают играть
на специальной кельтской сцене. Кельтскую сцену собирались возвести на берегу
Волги; в последний момент что-то не заладилось, и Груша осталась без кельтской
сцены. Так и не прозвучала на берегах великой русской реки «Morrison Jig». А заодно и мы остались без гарантированного места выступлений. Марк, пригласивший
нас на Грушу, быстро ушёл куда-то вбок, а вскоре и вообще стал появляться
только при открывании очередной бутылки коньяка. Он как-то очень тонко чувствовал
этот момент. Так что с организацией нам повезло. Очень скоро стало ясно, что
Груше, по большому счёту, наплевать на знаменитостей, приехавших инкогнито,
и более того — никто не в курсе, какая The Dartz замечательная группа. Боюсь, не многие из тех, кто занимался разруливанием
расписаний, слышали хотя бы наше название. Пока до меня это доходило, прошёл
весь четверг и половина пятницы. Вторую половину пятницы мы провели в прослушиваниях
— и, потеряв каких-то четыре часа, мы уже твёрдо знали, что никто, кроме себя,
на Груше не поможет. А заодно и то, что прослушивания — это отстой, и «это
не то, о чём я буду думать», и это не то, ради чего наша эпическая группа
приехала на Грушинский фестиваль, преодолев множество страшно даже подумать
каких препятствий.
Честно
говоря, я был очень расстроен, и только положительные вибрации, царившие на
Поляне, помешали мне сказать Марку всё, что я о нём думаю.
Надо
было как-то выправлять дело. И я пошёл по сценам. Сперва дело шло туго. На
большинстве сцен нам посоветовали пройти прослушивание, что мы и делали в
пятницу. Результаты поначалу были смехотворные: пятнадцать минут тут, десять
там. Наиболее ощутимым результатом стал ангажемент на первой сцене и моральная
победа над комиссией бардов — тоже приятно, но опять же не ради этого наша
команда пёрлась за полторы тысячи километров от дома со всеми габулями. Правда,
в первый вечер мы вписались на «Пеньки». Выступление всем понравилось, да
и Марк нам помогал, как мог — договорился с «Пеньками», и из наших честных
сорока минут половину отдали «Вересковому Мёду». После этой гениальной комбинации
я понял, что Марку лучше сообщать о концертах пост-фактум.
Но
потом начались чудеса!
 Когда
мне уже надоело доказывать, что мы не верблюды, я, разговаривая с хозяевами
сцены «32 августа», в сердцах бросил: «Зачем терять время на прослушивание?
Вы что, Дартз не слышали?» «О, Дартз мы, конечно же слышали,— ответил с улыбкой
Игорь Белый, с которым мы потом весь фестиваль были в отличных отношениях.—
Вы похожи на них?» «Мы и есть Дартз»,— буркнул я. Больше на этой сцене проблем
не было. Мы играли в «карповнике» дважды, второй концерт уже походил на нормальные
дартсовские концерты. Это было как раз в день всеобщей грязи, и мы не удержались
и сыграли «Жабу Раздавленную». Звукооператор был знакомый Майка из Нижнего
Новгорода, звали его Эльф, и на каждой песне он выскакивал в «зал» и танцевал.
Звук с каждой песней становился всё хуже...
Когда
мне уже надоело доказывать, что мы не верблюды, я, разговаривая с хозяевами
сцены «32 августа», в сердцах бросил: «Зачем терять время на прослушивание?
Вы что, Дартз не слышали?» «О, Дартз мы, конечно же слышали,— ответил с улыбкой
Игорь Белый, с которым мы потом весь фестиваль были в отличных отношениях.—
Вы похожи на них?» «Мы и есть Дартз»,— буркнул я. Больше на этой сцене проблем
не было. Мы играли в «карповнике» дважды, второй концерт уже походил на нормальные
дартсовские концерты. Это было как раз в день всеобщей грязи, и мы не удержались
и сыграли «Жабу Раздавленную». Звукооператор был знакомый Майка из Нижнего
Новгорода, звали его Эльф, и на каждой песне он выскакивал в «зал» и танцевал.
Звук с каждой песней становился всё хуже...
Мне
кажется, все сцены на Груше были чем-то сродни клубам. Надо было ходить по
этим сценам, проталкивать группу, у всех были свои взгляды на музыку и формат,
у всех был разный звук, у всех была разная степень ответственности. Уже упоминавшиеся
«Пеньки» были притчей во языцех для всего музыкантского лагеря. Хозяйка «Пеньков»,
Ольга, часов до двух-трёх была вполне вменяема. Можно было подойти к ней,
и, представившись музыкантом из The Dartz, вписаться на вечернюю
программу. «Пеньки» все любили. Там выступали любимцы фестиваля — Козловский
и Смирнов. Там выступили и мы... Мы бы играли там и чаще, если б не один достойный
внимания факт. «Я пишу вас на полночь,— говорила Ольга, записывая в своей
неряшливой тетрадке слово «the» (на Груше никто, кроме нас, определённого артикля
в названии не имел).— Но учтите,— говорила она,— если ко мне придут Смирнов,
Козловский или «Грассмейстер», я их впишу перед вами, и программа сдвинется.
И у них выступления ненормированные. Потому что они Мастера». И каждый день
Мастера приходили, и играли подолгу и с удовольствием (и, мне кажется, даже
не по одному разу), чтоб им пусто было, и Козловскому, и Смирнову. Каждый
вечер они радовали слушателей искромётными импровизациями по сорок минут на
песню, и программа ползла при этом на два-три часа минимум. Дело осложнялось
тем, что Ольга пила. Вернее, наверное, она бы и рада не пить, но «Пеньки»,
как я уже сказал, все любили, и хозяйке постоянно наливали. Поэтому к полуночи
она, хоть и держалась на ногах, но разговаривала с большим трудом, и, как
правило, не с вами. Тетрадка её к этому времени напоминала конспект очень
неряшливого студента, изучающего несвязные графы. «А, Дима, это вы,— говорила
она, с трудом ворочая языком,— а это вот Козловский на сцене, слышите, играет!»
(вся задушевно подпевала «Но это не то, о чём я буду думать») «Ваше время
было через десять минут, но сперва придёт Смирнов, а вот и он (здравствуй,
Ваня!), Смирнов это у нас около часа, а потом у меня вот эти, эти, и эти по
двадцать минут, и вот этому я тоже обещала, а этих мы двигаем сюда, короче,
приходите часа через четыре».
В
первую ночь мы сыграли всего на час позже. Во вторую — «Пеньки» смыл дождь.
На третью ночь над сценой появился навес, но задержка была такая, что мы,
посчитав, поняли, что наше время придёт около пяти утра. После дня, полного
концертов, никто почему-то не хотел играть в пять утра. Так мы больше и не
поиграли на «Пеньках». В народе, кстати, их называли «Пьянками».
 Было
и загадочное «Зазеркалье» в лесах между третьей и четвёртой сценой. Там всегда
царил полумрак, как в театре. Сцену окружали рослые дубы. Высоко над головами
слушателей они почти смыкали свои ветви. На деревьях при входе висели тяжёлые
овальные зеркала. Помню, даже найти «Зазеркалье» было нелегко. Здесь, наоборот,
за временем следили строго, и, если группа увлекалась и превышала свой лимит,
ей отрубали звук. На этой сцене всё было расписано ещё в среду. Мы очень душевно
пообщались с хозяйкой «Зазеркалья», но выступить там так и не получилось.
Было
и загадочное «Зазеркалье» в лесах между третьей и четвёртой сценой. Там всегда
царил полумрак, как в театре. Сцену окружали рослые дубы. Высоко над головами
слушателей они почти смыкали свои ветви. На деревьях при входе висели тяжёлые
овальные зеркала. Помню, даже найти «Зазеркалье» было нелегко. Здесь, наоборот,
за временем следили строго, и, если группа увлекалась и превышала свой лимит,
ей отрубали звук. На этой сцене всё было расписано ещё в среду. Мы очень душевно
пообщались с хозяйкой «Зазеркалья», но выступить там так и не получилось.
Самое
большое чудо ждало нас на четвёрке. Прослушивания на этой площадке не уважали,
так что нам просто посоветовали прийти и
принять участие в «открытом микрофоне», чтобы они могли посмотреть, что мы
такое. Настриваясь, Игорь пристально вглядывался в крепкого, бородатого человека
за пультом. «Уж больно на Митю из ЦДХ похож,— задумчиво сказал Игорь.— Но
вряд ли он, что ему тут делать». Что забавно, это Митя и оказался! Митя был
первый подарок, свалившийся на нас на Грушинском фестивале. Когла-то он рулил
тот концерт, где была записана половина концертного альбома 2001 года. Так
что The Dartz Митя знал, и знал очень хорошо. Его неповторимый стиль отстройки невозможно
забыть. «Ну-ка спой в этот микрофон,— просил он в ЦДХ.— Та-ак... Понятно,
петь не умеешь. Будешь петь вон в тот» После записи концертника он появился
в гримёрке ЦДХ с записанной кассетой. «Спасибо, ребята,— сказал он,— учитесь
играть».
М:
Радостно было не просто повстречаться, но
и заручиться поддержкой хорошего человека и
неравнодушного звукооператора. Митя и Сергей выстроили нам на этой
сцене такой замечательный звук, которого нам на Груше больше никто не делал.
Народ сразу стал собираться со всех сторон. На меня посыпались вопросы про
группу, от желающих купить диски не было отбою. Звук был хорош, но всякие
мелкие боглахи не давали расслабиться: потерялся Слон, который застрял на
тонущем понтоне, слетела гаечка с игоревой гитары и ему пришлось играть на
гитаре Ди. (Потом Игорь и спасшийся Слон гаечку заменили колечком от пивной
банки). Про рваные струны уж и говорить не приходится — рвались они постоянно. Но концерты на четвертой
сцене все-таки были самыми удачными, и очень приятно про них вспоминать. В
перерывах между концертами каждый устремлялся куда его манило: кто тусоваться,
кто концерты слушать, а кто и просто перекусить.
Д:
Сергей, заведующий четвёркой, остался в полном
востороге и назначил нам отдельное выступление на этот же день. Мы были очень
рады и пошли купаться. День был грязный и жаркий. Над грязями поднимались
испарения, в грязях гнили тапочки. Поэтому неудивительно, что весь лагерь
как-то спонтанно решил пойти купаться. Чтобы дойти до пляжа, требовалось перейти
по понтонам небольшую протоку. Народ прибывал и прибывал, отчего понтоны не
выдержали и стали делать так, как делал «Титаник» в заключительных кадрах
фильма. У администрации почему-то не хватило соображения сразу перекрыть выход
на переправу. Грушинцы продолжали скапливаться, понтоны дыбились, люди скапливались
ещё больше, понтоны наклонялись совсем уж угрожающе... Кто-то уже прыгал в
воду... В конце-концов народ стали пускать маленькими порциями, а понтоны
держали дюжие мужики, по плечи стоя в воде, и с матюгами гнали купальщиков
по переправе. С каждой минутой эти атланты Грушинского фестиваля всё больше
и больше и больше уходили в ил. Когда очередной богатырь скрывался в иле с
головой, его заменяли свежим человеком.
Переправиться
было почти нереально — слишком большие толпы собрались по ту и по эту стороны
протоки. Ситуация осложнялась тем, что через двадцать минут ожидался очередной
концерт на четвёртой сцене. Вздохнув, мы увязали свои пожитки в узлы и вошли
в воду для того, чтобы переплыть протоку по-чапаевски. Можно было доплыть
до красивых яхт (или катеров?), швартующихся на том берегу, и как-нибудь залезть
по леерам. В последний момент, правда, удалось вскарабкаться на гуляющие понтоны,
так что переправа закончилась более-менее удачно. Для всех, кроме Слона. Уже
у сцены, позвонив, мы узнали, что Слонец безнадёжно застрял на переправе,
а в воду лезть не хочет. Пришлось начать без басиста... Он, правда, прибежал
на третьей песне, с ходу врубил бас и сыграл запоминающуюся фразу на пол-тона
ниже. И всё равно концерт удался на славу. Митя и здесь был на высоте и нарулил
группе отличный звук. Правда, рассиживаться было некогда, и группа прыжками
помчалась на первую сцену, где предстояло играть по одним сведениям полчаса,
по другим — полтора.
 Сыграли
мы там десять минут. При этом количество входов на сцене ну никак не хотело
соответствовать запросам группы. Дело в том, что все сцены на Груше были оснащены
похожей слабоватой аппаратурой. Как правило, все имели пять-шесть микрофонов
и два-три входа в линию. Нашей группе, требовавшей пять линий и пять микрофонов,
было тесновато. Приходилось идти на ухищрения — включать гитару в микрофонный
шнур через ди-бокс, играть через портативный анфисин комбик, или, стоя в нелепой
позе, подзвучивать гитару через микрофон: ни поколбаситься, ни попрыгать.
Пятнадцать-двадцать минут, отводящиеся на выступления, научили группу делать
моментальные саунд-чеки за пару минут, и строить программу из четырёх песен
так, чтобы она имела начало, продолжение и кульминацию. И, знаете ли, получалось!
В большинстве случаев за пять минут удавалось нарулить такой звук, который
в столичных клубах не наруливался и за час. Уж что-что, а микрофоны на Грушинском
фестивале были отстроены на славу. Всякий раз голоса просто гремели. Часто
приходилось выделять микрофон для гитары. Очень скоро я понял, что гитара,
подзвученная через микрофон — это порванные струны. На первой сцене порвались
сразу две струны. На следующий
день, в воскресенье, мы появились на главной, третьей эстраде, и там порвалась
ещё одна струна. Загорающий народ охотно хлопал. За сценой ходила девушка
и раздавала журналы наподобие «Вокруг света». Открыв один из них, Деодан увидел
ГИЕНУ и вдруг захохотал. Тем временем группу представляли как «представителей
петербургского клуба самодеятельной песни». «И, пожалуйста, не спорьте,— сказал
Сергей (он заведовал четвёркой, но имел какое-то влияние и на тройке).—Так
надо. Будете играть столько, сколько я захочу». Спорить почему-то не хотелось,
хотелось играть...
Сыграли
мы там десять минут. При этом количество входов на сцене ну никак не хотело
соответствовать запросам группы. Дело в том, что все сцены на Груше были оснащены
похожей слабоватой аппаратурой. Как правило, все имели пять-шесть микрофонов
и два-три входа в линию. Нашей группе, требовавшей пять линий и пять микрофонов,
было тесновато. Приходилось идти на ухищрения — включать гитару в микрофонный
шнур через ди-бокс, играть через портативный анфисин комбик, или, стоя в нелепой
позе, подзвучивать гитару через микрофон: ни поколбаситься, ни попрыгать.
Пятнадцать-двадцать минут, отводящиеся на выступления, научили группу делать
моментальные саунд-чеки за пару минут, и строить программу из четырёх песен
так, чтобы она имела начало, продолжение и кульминацию. И, знаете ли, получалось!
В большинстве случаев за пять минут удавалось нарулить такой звук, который
в столичных клубах не наруливался и за час. Уж что-что, а микрофоны на Грушинском
фестивале были отстроены на славу. Всякий раз голоса просто гремели. Часто
приходилось выделять микрофон для гитары. Очень скоро я понял, что гитара,
подзвученная через микрофон — это порванные струны. На первой сцене порвались
сразу две струны. На следующий
день, в воскресенье, мы появились на главной, третьей эстраде, и там порвалась
ещё одна струна. Загорающий народ охотно хлопал. За сценой ходила девушка
и раздавала журналы наподобие «Вокруг света». Открыв один из них, Деодан увидел
ГИЕНУ и вдруг захохотал. Тем временем группу представляли как «представителей
петербургского клуба самодеятельной песни». «И, пожалуйста, не спорьте,— сказал
Сергей (он заведовал четвёркой, но имел какое-то влияние и на тройке).—Так
надо. Будете играть столько, сколько я захочу». Спорить почему-то не хотелось,
хотелось играть...
... Но играть одно и то же урывками по пятнадцать
минут было не особенно интересно. Группе нужен был оперативный простор. И
в воскресенье она его получила. Для заключительного концерта на четвёрке нам
выделили тридцать минут, но играли мы, может, и побольше. Впервые на Груше
была исполнена связная программа  The Dartz с началом и концом;
впервые были подзвучены все инструменты. К тому времени уже стемнело, и народ
стеной стоял перед сценой. На склоне жгли костры и светили фонариками. Наскоро
обученные танцоры с радостью демонстрировали знания, полученные во время мастер-класса,
и водили змейки как заправские бретонцы. В этот день кое-кто уже уехал, и
в воздухе носился дымный привкус разлуки. Последней мы сыграли «Концерт для
двух елей». Народ, взявшись за руки, подпевал. Это была наша собственная Гора.
Что-либо добавить к этому было уже трудно.
The Dartz с началом и концом;
впервые были подзвучены все инструменты. К тому времени уже стемнело, и народ
стеной стоял перед сценой. На склоне жгли костры и светили фонариками. Наскоро
обученные танцоры с радостью демонстрировали знания, полученные во время мастер-класса,
и водили змейки как заправские бретонцы. В этот день кое-кто уже уехал, и
в воздухе носился дымный привкус разлуки. Последней мы сыграли «Концерт для
двух елей». Народ, взявшись за руки, подпевал. Это была наша собственная Гора.
Что-либо добавить к этому было уже трудно.
Г:
С опасением ожидался обратный путь. Ранний
подъем, Лестница, электричка с большим количеством желающих уехать, начинающийся
дождик… Оказалось, что нам повезло и поймалась «Газель» до Самары. Набитая
под завязку мокрыми рюкзаками, мокрыми инструментами и мокрыми засыпающими
музыкантами, маршрутка рулила по проселку. Вдоль заборов придорожных селений
колосилась конопля. Не выдержав этого зрелища я провалился в тяжелый сон…
М:
Обратно наверх по лестнице мы не забирались.
Промокшие палатки сделали рюкзаки неподъемными, а количество народу, топающее
на электричку вызвало у нас сомнения, влезем ли мы в нее. Накануне мы договорились
с водителем маршрутки -«газели», что он нас за сходную цену довезет до Самарского
вокзала. Водитель к условленному часу не прибыл, и другая группа захвата отправилась
ловить другую машину. Поймала, а машину в свою очередь поймало ГАИ, так что
мы остались и без второй машины. Время стремительно убывало. Мы впряглись
в рюкзаки и двинулись все вместе на поиски счастья. Счастье вдруг обнаружилось
в лице первой, заказанной маршрутки. Юлища погналась за маршруткой вслед,
Игорь со своим гигантским рюкзаком рванул наперерез. По дороге он снес половину
чьей-то палатки, но вместо «Извините» смог выкрикнуть нечто совсем противоположное.
Наконец машину загнали и плотно набили собой, вещами и инструментами. Всё.
Прощай, Груша. Машина начала взбираться на высокие холмы, заросшие дубами,
соснами и коноплей. Эх, жаль, не было времени выйти, поближе посмотреть на
дикорастущую коноплю!! По дороге пытались спать — невозможно, машину трясло, на ноги падала
мандолина. Игорева голова билась о дверь маршрутки...
Д: Потому что, как вы понимаете, в последнюю
ночь мы почти не спали. Вернувшись в лагерь после финального концерта, мы
решили напоследок прогуляться по фестивалю. На следующий день рано утром должен
был прийти самарский транспорт. Поэтому народ спешил насладиться последними
часами грушинского веселья. Между палатками уже виднелись пустые места: многие
приехали ради субботнего концерта на «Гитаре», и всё воскресенье вверх по
лестнице текла нескончаемая вереница отбывающих. Две из трёх лун уже не светились.
Ошалевшие и немного нетрезвые грушинцы в обнимку разгуливали по непривычно
пустым улицам. У первой и второй сцен стоял зачехлённый аппарат, готовый к
погрузке. Рядом с четвёртой сценой, пустой после финального поклона The
Dartz, отчётливо квакала жаба. Оставшийся народ собрался у третьей сцены
и у «Пеньков» — там ещё было по-всегдашнему ярко, многолюдно и весело. На
пеньках играл «Оркестр хемулей», и вместе с ним зажигала Анфиса и Боб из «Верескового
Мёда». Где был Слон — не знаю; возможно, его всё-таки приняли в эту ночь в
барды, но он никому об этом не сказал. Чудеса продолжались. На третьей всю ночь
шёл прощальный концерт гостей фестиваля. У автобуса с аппаратурой мы заприметили
барда Леонида Сергеева, чьё словечко «кяйяскулля» было использовано в «Перкеле-польке».
И я, конечно же, спросил его, что означает это слово.
Бард
отвечал...
СЛ: Очень странно,
что все худшее сбылось, но при этом понравилось. Не могу понять, как так бывает,
но... бывает! Понравилось то, что МЫ. Понравилось, что куда-то в неизвестность
ЕДЕМ. Где куча опасностей и неприятностей. Но МЫ там были, и вернулись! Хороших
впечатлений мало, но они есть. Приятно, что на бардятском (в самом плохом
смысле слова) фестивале теперь не только ОНИ. Что есть... и этно, и бард-рок
и "Вересковый мёд". Я умудрился их слушать и пропускать мимо ушей
БАРДОВ, мою "защиту" на мгновение пробил только омерзительный вопль
со сцены "ДЕМБЕЛЯ, ДЕМБЕЛЯ!" но я быстро адаптировался, и далее
уже подобное не воспринимал. Вот такое и вспоминается...
Г:
Словом, все ужасы, которые нам рассказывали
знакомые про Грушу оказались правдой. Только они отчего-то были не очень ужасные.
Народу много. Да. Только он не грузит, как в городе и воспринимается, как
некий сплошной поток, как муравейник, где отдельного муравья уже и не рассматриваешь.
Много пьяных. Да. Лежали даже штабелями. Ну, дело-то житейское, переступил
и дальше пошел. Музыка везде. Да. Но ухо замыливается, и наплевать. Да, с
удобствами странно. Но повод для шуток, поход в Сральные Ямы, как челлендж.
Дождь и грязь. Да, но в лесу грязи нет. В Волге холодная вода. Да, но когда
выходишь — тепло и волосы становятся, как паутина: легкие и воздушные. И так
далее.
Д: Остались ещё какие-то вещи, не сделанные
на этом фестивале, но мы и не спешили завершать свои дела. Например, мы так
и не посмотрели на Грушу ночью с вершины лестницы; должно быть, это захватывающее
зрелище — море огней, огненные улицы, освещаемые тремя лунами, огоньки в рощах
и на берегах озёр. Остались насущные вопросы, которые я хотел задать Ивану
Смирнову, но почему-то не задал, ограничившись замысловатым автографом мастера.
Именно Смирнов, кстати, закрывал последний концерт Груши. В четыре или в пять
утра — и я опять не могу поручиться, что это мне не приснилось — я слышал,
лёжа в своей палатке, как группа Смирнова взяла финальный аккорд, и Миша ударил
в гонг, и Смирнов крикнул «Доброе утро, до свидания!». Уже было светло, всходило
солнце и пели птицы, и так заканчивалась 31я Груша.
М:
На сей раз приехав в Москву я почувствовала
себя дома! Тихо-тихо поднимаемся на этаж к Шону, звоним в дверь, и как только
он ее открывает, задумчиво и проникновенно поем: «Изгиб гитары желтой...».
Шон тут же закрывает дверь.
И
вот опять пол в квартире Шона покрыт кучей спальников, а очередь на мытье
в ванной расписана еще с поезда. Правда Ди не захотел бриться — сказал, что
сохранит грушинский колорит — выйдет на сцену Грушинским Оборванцем. И все-таки
мы почти дома. Патрик подозрительно нюхает нас. Бедолага! Перед концертом в Вермеле надо выспаться. Не спиться. Горелый водит по
телам спящих лазерной указкой — Патрик носится за световым пятнышком, выпустив
когти. Поспать. Хоть немного.
Г: Выползя на кухню ради покурить я обнаружил
«шутку с котом Патриком», показанную Шоном по приезде — яркая красная точка
лазерной указки, повинуясь руке мучителя, пыталась быть поймана Патриком.
Отчего-то в моем истомленном больном сознании родилась мысль, что тщетно пытавшиеся
заснуть прикорнувшие на спальниках товарищи будут рады ощутить на себе прыжки
игривого домашнего животного. Сгибаясь от сдерживаемого хохота я прокрался
в комнату, устроил вышеозначенное действо и упал в корчах, заливаясь слезами
от радости и смеха. В тот момент мне было очень смешно, отчего же друзья не
очень рады вторжению представителя семейства кошачьих. Как ребенок веселился,
правда.
Д: Груша, конечно, дала по мозгам. Уже в «Вермеле»,
перед выступлением, я наклонился к Игорю и тихонько сказал: «Сейчас доигрывает
этот исполнитель, ещё две песни, и выходим мы». Игорь в ужасе отшатнулся.
В зале звучал «Queen»... В «Вермеле» даже «Queen» звучит преотвратно.
Г: Много можно было вспомнить еще — Анькин мастер-класс
по кельтским танцам, наверное, первый на Груше, и Вересковых Медов, поивших
нас вкусностями и ночью купающихся в Волге, и Слона, изрекающего афоризмы
и рыскающего в поисках «шкуры барда», но нашедшего только очки, и маму Марка,
дошедшую автостопом до Австралии, и супчики-пирожки и дружный крик «NOOooo!!!», и мерцающую Гору, и светящиеся ночью
шворцы и фонарики («Инопланетяне, когда же вы захватите Землю! Сообщите
дату!»), и сейшн на перекрестке, и прослушивания, и запись текста «50 лет»
со всеми «лалалалэйло!», и Митю-звукаря из ЦДХ, и танцующего звукаря-эльфа,
и «Поехали, Дункель!», и Ваню Жука с гитарой, и утопший понтон, и еду «с карликом»,
и финальный концерт, поставивший площадку перед сценой №4 на уши с
подтанцовкой, и железку от пивной банки, держащей джек-гнездо в Пановом «Ибанезе»,
и т.д., и т.п., и пр.
Нам обещали,
что нам понравится. Нам понравилось.
Может, мы приедем
еще.
Мы будем вспоминать
и рассказывать.
Мы никогда не
будем прежними.

СпасиБО:
Майку О`Куну, Mary McNine, Димычу, Марку, Даше, Nata_ch, всем Мёдам, Сергею
с "четвёрки", Мите-из-ЦДХ, Другу-из-Вермеля, Шону, Эльхане, Птице-Лисице,
Игорю Бурмистрову, и конечно, всем нашим, кто был и не был с нами в этом путешествии
Текст: Алёна Коллегаева, Антон Гореликов, Дмитрий Курцман, Сергей Чибирёв
Фотографии: Алёна Коллегаева
(с)
The Dartz, июль 2004
 Уважаемый
читатель! Твоему вниманию предлагаются путевые заметки, написанные участниками
питерской группы «The Dartz» по горячим следам поездки на XXXI-й ежегодный
фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Место действия — где-то под
Самарой. Время действия — 1-5 июля 2004 года. Рассказывают непосредственные
участники события — Dee (Д), Антон Гореликов (Г), и Моргул (М),
боевая подруга пана Игоря. Все фотографии тоже её авторства (кроме фотографии
Вани Жука, взятой с grushin.samara.ru). Таинственными литерами СЛ помечены
комментарии Слона, который изначально ничего не хотел писать, но вот же, всё-таки
написал. Некоторые события слегка доведены до абсурда с тем, чтобы позабавить
тебя, уважаемый читатель! Но все имена, фамилии и чувства в нижепреведённом
рассказе — настоящие.
Уважаемый
читатель! Твоему вниманию предлагаются путевые заметки, написанные участниками
питерской группы «The Dartz» по горячим следам поездки на XXXI-й ежегодный
фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Место действия — где-то под
Самарой. Время действия — 1-5 июля 2004 года. Рассказывают непосредственные
участники события — Dee (Д), Антон Гореликов (Г), и Моргул (М),
боевая подруга пана Игоря. Все фотографии тоже её авторства (кроме фотографии
Вани Жука, взятой с grushin.samara.ru). Таинственными литерами СЛ помечены
комментарии Слона, который изначально ничего не хотел писать, но вот же, всё-таки
написал. Некоторые события слегка доведены до абсурда с тем, чтобы позабавить
тебя, уважаемый читатель! Но все имена, фамилии и чувства в нижепреведённом
рассказе — настоящие.  Дойдя
до лагеря, Марк щедрым жестом показал лужайку три на три метра, где нам предстояло
поставить наши четыре палатки — пятачок, уже окружённый другими шатрами грязноватого
зелёного цвета. С ближайшей счены уже доносилась чья-то дурная гитара. «Дембеля,
дембеля», — надрываясь, пел бард. Брезгливо поведя носом, мы отправились искать
новое место. Приходилось перешагивать через чужие верёвки и тюки. «Это Груша»,—
сказала Даша, пожав плечами.
Дойдя
до лагеря, Марк щедрым жестом показал лужайку три на три метра, где нам предстояло
поставить наши четыре палатки — пятачок, уже окружённый другими шатрами грязноватого
зелёного цвета. С ближайшей счены уже доносилась чья-то дурная гитара. «Дембеля,
дембеля», — надрываясь, пел бард. Брезгливо поведя носом, мы отправились искать
новое место. Приходилось перешагивать через чужие верёвки и тюки. «Это Груша»,—
сказала Даша, пожав плечами.  После
дня в бегах мы засыпали как убитые, и вставали в девять «по Москве». Прочее
население Груши отсыпалось до двенадцати, а хозяева сцен очухивались дай Бог
часам к двум. С утра Поляна напоминала, как выразилась одна бардесса, Бородино:
палатки, дымы, тела, стоны. И, обязательно, в пределах слышимости — перебор
гитарных струн. Не сразу, не вдруг народ вставал к новому дню и спешил устраивать
свой быт.
После
дня в бегах мы засыпали как убитые, и вставали в девять «по Москве». Прочее
население Груши отсыпалось до двенадцати, а хозяева сцен очухивались дай Бог
часам к двум. С утра Поляна напоминала, как выразилась одна бардесса, Бородино:
палатки, дымы, тела, стоны. И, обязательно, в пределах слышимости — перебор
гитарных струн. Не сразу, не вдруг народ вставал к новому дню и спешил устраивать
свой быт.  М:
Слон, изначально оппозиционный фестивалю,
мужественно переносил все окружающее. «Ну как настроение, Слон?» «Ничего.
Кругом говно, но я не сдаюсь!»,— весело ответствовал он, жуя булку. Надо отметить
что он поставил себе две главные задачи: прожить эти четыре дня на Груше и
добыть шкуру барда. Первую задачу он успешно выполнил, а вторую — наполовину:
добыл очки барда.
М:
Слон, изначально оппозиционный фестивалю,
мужественно переносил все окружающее. «Ну как настроение, Слон?» «Ничего.
Кругом говно, но я не сдаюсь!»,— весело ответствовал он, жуя булку. Надо отметить
что он поставил себе две главные задачи: прожить эти четыре дня на Груше и
добыть шкуру барда. Первую задачу он успешно выполнил, а вторую — наполовину:
добыл очки барда.  Д:
Мы проходили эти прослушивания, параллельно
играя нормальные концерты для нормальных людей. В конце главного трехэтапного
прослушивания маячила сцена на «Гитаре» и прямая телетрансляция, и никаких
прочих обязательств эти прослушивания не налагали — так что почему бы и нет,
решили мы. Правда, группа потеряла кучу времени, ожидая своей очереди выйти
и исполнить две-три песни. В финал мы, к сожалению, не вышли. У меня есть
серъёзные сомнения по поводу того, может ли команда с английским названием
и мрачной песней про холодные камни получить официальное признание грушинского
комитета.
Д:
Мы проходили эти прослушивания, параллельно
играя нормальные концерты для нормальных людей. В конце главного трехэтапного
прослушивания маячила сцена на «Гитаре» и прямая телетрансляция, и никаких
прочих обязательств эти прослушивания не налагали — так что почему бы и нет,
решили мы. Правда, группа потеряла кучу времени, ожидая своей очереди выйти
и исполнить две-три песни. В финал мы, к сожалению, не вышли. У меня есть
серъёзные сомнения по поводу того, может ли команда с английским названием
и мрачной песней про холодные камни получить официальное признание грушинского
комитета.  М:
Борисыч злорадно заблестел глазами и бросился
переписывать тексты со всеми подробностями, специально вставив в программу
«Полсотни лет».
М:
Борисыч злорадно заблестел глазами и бросился
переписывать тексты со всеми подробностями, специально вставив в программу
«Полсотни лет». Жук
зажигал вовсю. Со своей угловатой пластикой он был похож прямо-таки на Пита
Таушенда, и это уже было совсем не по-бардовски. А Козловский (так мы впервые
услышали этого музыканта) пел свои песни, и народ (а народу было море) пел
хором с ним, вращал фонарики и устраивал овации после каждого номера. Ветви
дубов и клёнов трепетали от музыки и легкого ветра. По энергетике это было
похоже на хороший стадионный рок-концерт, но концерт без официоза, многолюдный,
но в тоже время не утерявший интимности. А на сцене был всего-то человек с
гитарой. Но он был мощный, как Боб Дилан. Песни Козловского многие здесь знали
наизусть. Вскоре их наизусть знали и мы: его пыльный голос, поющий «Поехали,
Дункель», «Деревянная Голова» и «Это не то, о чём я буду думать» звучал в
те дни с каждой сцены. «Кто-то выпил всё пиво»,— бывало, говорил кто-нибудь,
и кто-нибудь обязательно добавлял,— «но это не то, о чём я буду думать».
Жук
зажигал вовсю. Со своей угловатой пластикой он был похож прямо-таки на Пита
Таушенда, и это уже было совсем не по-бардовски. А Козловский (так мы впервые
услышали этого музыканта) пел свои песни, и народ (а народу было море) пел
хором с ним, вращал фонарики и устраивал овации после каждого номера. Ветви
дубов и клёнов трепетали от музыки и легкого ветра. По энергетике это было
похоже на хороший стадионный рок-концерт, но концерт без официоза, многолюдный,
но в тоже время не утерявший интимности. А на сцене был всего-то человек с
гитарой. Но он был мощный, как Боб Дилан. Песни Козловского многие здесь знали
наизусть. Вскоре их наизусть знали и мы: его пыльный голос, поющий «Поехали,
Дункель», «Деревянная Голова» и «Это не то, о чём я буду думать» звучал в
те дни с каждой сцены. «Кто-то выпил всё пиво»,— бывало, говорил кто-нибудь,
и кто-нибудь обязательно добавлял,— «но это не то, о чём я буду думать». И
сейшенёры тут тоже были. Иногда на перекрёстках вспыхивали стихийные драм-сейшны.
Туда сбегались все, у кого находился джамбей, дарбука или хотя бы пустая кастрюля.
Найдя нужный ритм, сейшенёры могли играть часами. Как правило, после такой
музыки разражался многочасовой лютый дождь. Пару раз у обочины я видел группу
людей с барабанами и диджериду. Это приехал «Добровольный оркестр хемулей»
из Москвы. Правда, дождь им вызвать так и не удалось. На диджериду ведь тоже
учатся играть, правда?
И
сейшенёры тут тоже были. Иногда на перекрёстках вспыхивали стихийные драм-сейшны.
Туда сбегались все, у кого находился джамбей, дарбука или хотя бы пустая кастрюля.
Найдя нужный ритм, сейшенёры могли играть часами. Как правило, после такой
музыки разражался многочасовой лютый дождь. Пару раз у обочины я видел группу
людей с барабанами и диджериду. Это приехал «Добровольный оркестр хемулей»
из Москвы. Правда, дождь им вызвать так и не удалось. На диджериду ведь тоже
учатся играть, правда? Коньяк,
кстати, пился исключительно в утилитарных целях — чтобы взбодриться между
выступлениями. В этой свистопляске о спиртном как-то не вспоминалось. На месте
оказалось, что можно прожить и без алкоголя. Большие баллоны с пивом (которые
здесь назывались «баклаги») выпивались как вода. Перед последним концертом
Игорь ухитрился выпить ШЕСТЬ таких баклажек, и вышел на сцену в сильно приподнятом
настроении, хохоча и отплясывая. Но, думаю, его пёрло бы и без баклаг.
Коньяк,
кстати, пился исключительно в утилитарных целях — чтобы взбодриться между
выступлениями. В этой свистопляске о спиртном как-то не вспоминалось. На месте
оказалось, что можно прожить и без алкоголя. Большие баллоны с пивом (которые
здесь назывались «баклаги») выпивались как вода. Перед последним концертом
Игорь ухитрился выпить ШЕСТЬ таких баклажек, и вышел на сцену в сильно приподнятом
настроении, хохоча и отплясывая. Но, думаю, его пёрло бы и без баклаг. 
 Когда
мне уже надоело доказывать, что мы не верблюды, я, разговаривая с хозяевами
сцены «32 августа», в сердцах бросил: «Зачем терять время на прослушивание?
Вы что, Дартз не слышали?» «О, Дартз мы, конечно же слышали,— ответил с улыбкой
Игорь Белый, с которым мы потом весь фестиваль были в отличных отношениях.—
Вы похожи на них?» «Мы и есть Дартз»,— буркнул я. Больше на этой сцене проблем
не было. Мы играли в «карповнике» дважды, второй концерт уже походил на нормальные
дартсовские концерты. Это было как раз в день всеобщей грязи, и мы не удержались
и сыграли «Жабу Раздавленную». Звукооператор был знакомый Майка из Нижнего
Новгорода, звали его Эльф, и на каждой песне он выскакивал в «зал» и танцевал.
Звук с каждой песней становился всё хуже...
Когда
мне уже надоело доказывать, что мы не верблюды, я, разговаривая с хозяевами
сцены «32 августа», в сердцах бросил: «Зачем терять время на прослушивание?
Вы что, Дартз не слышали?» «О, Дартз мы, конечно же слышали,— ответил с улыбкой
Игорь Белый, с которым мы потом весь фестиваль были в отличных отношениях.—
Вы похожи на них?» «Мы и есть Дартз»,— буркнул я. Больше на этой сцене проблем
не было. Мы играли в «карповнике» дважды, второй концерт уже походил на нормальные
дартсовские концерты. Это было как раз в день всеобщей грязи, и мы не удержались
и сыграли «Жабу Раздавленную». Звукооператор был знакомый Майка из Нижнего
Новгорода, звали его Эльф, и на каждой песне он выскакивал в «зал» и танцевал.
Звук с каждой песней становился всё хуже... Было
и загадочное «Зазеркалье» в лесах между третьей и четвёртой сценой. Там всегда
царил полумрак, как в театре. Сцену окружали рослые дубы. Высоко над головами
слушателей они почти смыкали свои ветви. На деревьях при входе висели тяжёлые
овальные зеркала. Помню, даже найти «Зазеркалье» было нелегко. Здесь, наоборот,
за временем следили строго, и, если группа увлекалась и превышала свой лимит,
ей отрубали звук. На этой сцене всё было расписано ещё в среду. Мы очень душевно
пообщались с хозяйкой «Зазеркалья», но выступить там так и не получилось.
Было
и загадочное «Зазеркалье» в лесах между третьей и четвёртой сценой. Там всегда
царил полумрак, как в театре. Сцену окружали рослые дубы. Высоко над головами
слушателей они почти смыкали свои ветви. На деревьях при входе висели тяжёлые
овальные зеркала. Помню, даже найти «Зазеркалье» было нелегко. Здесь, наоборот,
за временем следили строго, и, если группа увлекалась и превышала свой лимит,
ей отрубали звук. На этой сцене всё было расписано ещё в среду. Мы очень душевно
пообщались с хозяйкой «Зазеркалья», но выступить там так и не получилось. Сыграли
мы там десять минут. При этом количество входов на сцене ну никак не хотело
соответствовать запросам группы. Дело в том, что все сцены на Груше были оснащены
похожей слабоватой аппаратурой. Как правило, все имели пять-шесть микрофонов
и два-три входа в линию. Нашей группе, требовавшей пять линий и пять микрофонов,
было тесновато. Приходилось идти на ухищрения — включать гитару в микрофонный
шнур через ди-бокс, играть через портативный анфисин комбик, или, стоя в нелепой
позе, подзвучивать гитару через микрофон: ни поколбаситься, ни попрыгать.
Пятнадцать-двадцать минут, отводящиеся на выступления, научили группу делать
моментальные саунд-чеки за пару минут, и строить программу из четырёх песен
так, чтобы она имела начало, продолжение и кульминацию. И, знаете ли, получалось!
В большинстве случаев за пять минут удавалось нарулить такой звук, который
в столичных клубах не наруливался и за час. Уж что-что, а микрофоны на Грушинском
фестивале были отстроены на славу. Всякий раз голоса просто гремели. Часто
приходилось выделять микрофон для гитары. Очень скоро я понял, что гитара,
подзвученная через микрофон — это порванные струны. На первой сцене порвались
сразу две струны. На следующий
день, в воскресенье, мы появились на главной, третьей эстраде, и там порвалась
ещё одна струна. Загорающий народ охотно хлопал. За сценой ходила девушка
и раздавала журналы наподобие «Вокруг света». Открыв один из них, Деодан увидел
ГИЕНУ и вдруг захохотал. Тем временем группу представляли как «представителей
петербургского клуба самодеятельной песни». «И, пожалуйста, не спорьте,— сказал
Сергей (он заведовал четвёркой, но имел какое-то влияние и на тройке).—Так
надо. Будете играть столько, сколько я захочу». Спорить почему-то не хотелось,
хотелось играть...
Сыграли
мы там десять минут. При этом количество входов на сцене ну никак не хотело
соответствовать запросам группы. Дело в том, что все сцены на Груше были оснащены
похожей слабоватой аппаратурой. Как правило, все имели пять-шесть микрофонов
и два-три входа в линию. Нашей группе, требовавшей пять линий и пять микрофонов,
было тесновато. Приходилось идти на ухищрения — включать гитару в микрофонный
шнур через ди-бокс, играть через портативный анфисин комбик, или, стоя в нелепой
позе, подзвучивать гитару через микрофон: ни поколбаситься, ни попрыгать.
Пятнадцать-двадцать минут, отводящиеся на выступления, научили группу делать
моментальные саунд-чеки за пару минут, и строить программу из четырёх песен
так, чтобы она имела начало, продолжение и кульминацию. И, знаете ли, получалось!
В большинстве случаев за пять минут удавалось нарулить такой звук, который
в столичных клубах не наруливался и за час. Уж что-что, а микрофоны на Грушинском
фестивале были отстроены на славу. Всякий раз голоса просто гремели. Часто
приходилось выделять микрофон для гитары. Очень скоро я понял, что гитара,
подзвученная через микрофон — это порванные струны. На первой сцене порвались
сразу две струны. На следующий
день, в воскресенье, мы появились на главной, третьей эстраде, и там порвалась
ещё одна струна. Загорающий народ охотно хлопал. За сценой ходила девушка
и раздавала журналы наподобие «Вокруг света». Открыв один из них, Деодан увидел
ГИЕНУ и вдруг захохотал. Тем временем группу представляли как «представителей
петербургского клуба самодеятельной песни». «И, пожалуйста, не спорьте,— сказал
Сергей (он заведовал четвёркой, но имел какое-то влияние и на тройке).—Так
надо. Будете играть столько, сколько я захочу». Спорить почему-то не хотелось,
хотелось играть... The Dartz с началом и концом;
впервые были подзвучены все инструменты. К тому времени уже стемнело, и народ
стеной стоял перед сценой. На склоне жгли костры и светили фонариками. Наскоро
обученные танцоры с радостью демонстрировали знания, полученные во время мастер-класса,
и водили змейки как заправские бретонцы. В этот день кое-кто уже уехал, и
в воздухе носился дымный привкус разлуки. Последней мы сыграли «Концерт для
двух елей». Народ, взявшись за руки, подпевал. Это была наша собственная Гора.
Что-либо добавить к этому было уже трудно.
The Dartz с началом и концом;
впервые были подзвучены все инструменты. К тому времени уже стемнело, и народ
стеной стоял перед сценой. На склоне жгли костры и светили фонариками. Наскоро
обученные танцоры с радостью демонстрировали знания, полученные во время мастер-класса,
и водили змейки как заправские бретонцы. В этот день кое-кто уже уехал, и
в воздухе носился дымный привкус разлуки. Последней мы сыграли «Концерт для
двух елей». Народ, взявшись за руки, подпевал. Это была наша собственная Гора.
Что-либо добавить к этому было уже трудно.